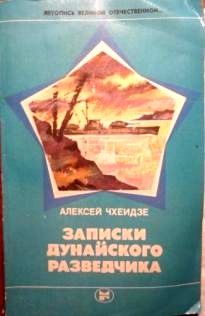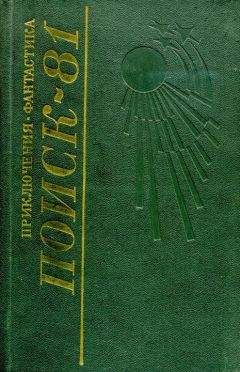Семен Калабалин - Бродячее детство
История, из-за которой я покинул табор, произошла в июне семнадцатого года. Дело в том, что благосостояние каждого цыгана определяется хорошей лошадью, хорошей бричкой, злой собакой и красивой женой. У моего приёмного отца были хорошие лошадь и бричка. Была и красивая жена. А вот собаки не было никакой. Был другой цыган у нас в таборе, у которого было четыре превосходных пса. Он же считался в таборе и лучшим скрипачом.
Насчёт собак дело обстоит не так просто. Собаку нельзя купить, её можно только украсть или выиграть. Тогда собака будет хорошая. И вот мой приёмный отец предложил скрипачу биться об заклад. Скрипач будет играть, а я плясать под его музыку. Кто из нас дольше выдержит. Не знаю, что поставил мой приёмный отец, а скрипач поставил собаку.
Собрался весь табор. Соревнование началось.
Не могу себе даже приблизительно представить, сколько времени оно продолжалось. Я плясал сначала с увлечением, потом вяло, потом выбиваясь из последних сил, чувствуя, что земля и небо кружатся вокруг меня. Потом у меня дрожали руки и ноги, я обливался потом, а сердце стучало так, что я его слышал. Я продолжал плясать. Я чувствовал, что сейчас упаду, но проклятый скрипач всё играл, и цыганы, сидевшие вокруг, всё хлопали в такт, и этому не было конца, и всё кружилось в моих глазах. Я понимал, что с минуты на минуту упаду, понимал, что у меня больше нет сил, и... продолжал плясать. Наверное, через минуту или через пять минут я бы упал без сознания, но, видно, скрипачу тоже приходилось нелегко. Он сдал раньше, чем я. Как человек азартный, он не мог спокойно пережить свой позор. Он подошёл ко мне, я даже не слышал, что скрипка замолкла, и разбил скрипку о мою голову. Собаку выиграл мой приёмный отец. Я упал на землю. Вероятно, я был без сознания. Кажется, мне дали выпить полынного настоя. Кажется, приёмный отец положил мне в руку полтинник. Потом я этого полтинника не обнаружил. Может, он мне только почудился, а может быть, я его выронил. И всё-таки я ещё не знал, как сложно стать по цыганскому обычаю владельцем собаки.
Оказывается, что нужна не просто собака, а обязательно злая. Это понятно, злая собака — хороший сторож. Но оказывается также, что есть только один способ сделать собаку злой: того, кто помог выиграть или украсть собаку, надо избить цыганским кнутом. Я не видел в этом никакой логики, но, к сожалению, мои взгляды никого не интересовали. И вот пока я лежал на земле, и мир крутился передо мной, и в голове у меня шумело, и я не мог отличить бред от яви, мой приёмный отец нанёс мне десять ударов цыганским кнутом.
Надо знать, что такое цыганский кнут! Если бить умеючи, им не трудно убить человека. Наверное, приёмный отец бил не в полную силу. Он не испытывал ко мне никакого зла. Наоборот, вероятно, он был мне благодарен за то, что я ему выиграл собаку. Он просто вынужден был исполнить обычай. Ему пришлось меня бить, потому что иначе собака не стала бы злой и всё соревнование пошло бы впустую. Такова была, как я себе представляю, его точка зрения.
Но моя точка зрения была совершенно противоположной. Когда я почувствовал, что за мои тяжкие труды, за мою выдержку и упорство, за то, что я победил и выиграл, мне наносят мучительно болезненные, непереносимо обжигающие удары цыганским кнутом, я сначала просто ничего не понял. Потом я постарался скрючиться так, чтоб защитить хотя бы лицо и глаза. Потом я, кажется, опять потерял сознание.
Когда я пришёл в себя, цыганы разошлись. Соревнование было закончено, мой приёмный отец выиграл собаку, и, поскольку все обычаи были соблюдены, собака обязательно будет злой, то есть такой, как надо. Мальчик отлежится и придёт в себя. Говоря современным языком, это закалит его характер и сделает более мужественным. Да и обычаи он, испытав их на собственной шкуре, лучше запомнит.
Но у меня, повторяю, была на всё это своя точка зрения. Я считал, что со мной поступили чудовищно и несправедливо. Я чувствовал, что ни при каких обстоятельствах эту несправедливость никогда простить не смогу. Я даже не решил уйти. Я просто почувствовал, что не уйти не могу. Несколько минут я ещё лежал, а потом встал и, шатаясь, ушёл из табора. Меня никто не задерживал. Я понимаю почему: ни один цыганёнок не будет плакать на людях, это позор. Мальчику больно, вероятно рассуждали цыгане, он уйдёт в сторонку, за деревья, там поплачет, чтобы никто не видел, и вернётся.
Я шёл шатаясь, пока не дошёл до ручья. Там я умылся холодной водой, немножко ещё посидел и медленно побрёл к ближайшему селу. В табор я никогда уже не вернулся. Никогда не видел никого из этого табора и не знаю, как сложилась дальше судьба у моего приёмного отца. Интересно, оказалась ли его собака достаточно зла, или он не рассчитал и недодал мне ещё несколько ударов кнутом. Отлежавшись возле села, я снова пошёл, прося подаяния, в единственный известный мне большой город Полтаву.
Всё это произошло пятьдесят лет назад. Всё это пережил я, человек, который и по сей день работает и надеется работать ещё не один год. Думаю, что в обстоятельствах моего детства для того времени не было ничего необычного. Просто неудачная судьба, для сына батрака даже, пожалуй, обычная. Меня удивляет другое: как мир, в котором всё это происходило, не похож на мир, в котором я живу сейчас. Я директор детского дома, и среди моих воспитанников нет ни одного, у которого бы детство сложилось удачно. Но какой ребёнок тринадцати-четырнадцати лет чувствует сегодня ту полную беззащитность, полное равнодушие окружающих к своей судьбе, полную нормальность своей неудачливости, которую чувствовал я тогда.
ДОРОГА ВНИЗ
Когда я убежал из дому, два моих старших брата, Ефим и Иван, работали на сахарном заводе помещика Дурново. Я об этом уже говорил, но хочу ещё раз напомнить, потому что до сих пор кажутся мне удивительными и чудесными две встречи с моими братьями.
Оба раза встречи эти происходили тогда, когда казалось, что ничто уже не может меня поднять с того человеческого дна, на которое я опустился. И оба раза встречи эти круто поворачивали мою жизнь.
Не могу сказать почему, но когда я вернулся Полтаву, уйдя из цыганского табора, город встретил меня немилостиво. Пытался я встать на трудовой путь и устроился к сапожнику, обещавшему выучить меня ремеслу. Но очень уж больно дрался этот сапожник шпандырем, да и учить ничему не учил, а больше посылал разносить заказы да покупать водку. Довольно скоро я понял, что тут меня ничему не научат, и благоразумно ушёл от сапожника, не известив его об этом заранее. Просил я и милостыню, но мне почти ничего не подавали. То ли я разучился просить, то ли стал слишком велик и не вызывал жалости. Так или иначе, жилось мне очень голодно.