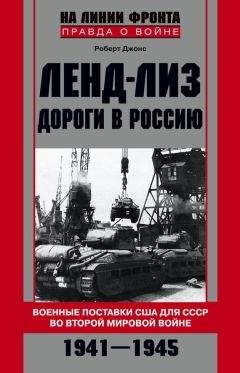Владимир Печерин - Замогильные записки
В Одессе меня повезли в театр. Там играли «Эдип в Афинах» Озерова[4]. Теперь еще помню начало:
«Постой, дочь нежная преступного отца!
Опора слабая несчастного слепца!
Печаль и бедствия всех сил меня лишили.»
Надобно заметить, что мне ничто даром не проходило. Какая-нибудь книжонка — стихи, два-три подслушанные мною слова делали на меня живейшее впечатление и определяли иногда целые периоды моей жизни. Возвратившись домой, я набросил на плечи шаль моей матери и начал расхаживать по комнате, как греческий царь. Высокие идеи театрального правосудия шевелились в голове моей. Мне хотелось быть правосудным царем — оправдать невинных, разбить оковы узников. У нас была какая-то большая белая книга: я начал в ней писать свои мысли и иллюстрировать их. Я нарисовал царя в венце и багрянице, сидящего на престоле: перед ним приводят пленников: он их прощает и велит снять с них оковы. С тех пор я каждый день представлял или греческих царей, или чувствительную драму Кора и Алонзо. Мне было 8 лет. С этого времени начинается моя ненависть к притеснителям, и я становился посредником между тиранами и их жертвами..
Тут же в Одессе умер наш полковой командир Андрей Карлович Мольтрах — горький пьяница. Какой-то полковой поэт написал ему следующую эпитафию:
«Стой, прохожий! Стой!»
Вижу у тебя штоф непустой:
Сжалься и мне немного отлей!
Здесь лежит пьяный Андрей!
Было какое-то торжество в одесском соборе. Все офицеры в большом параде. Был тут и герцог Ришелье[5]. Отец меня подвел к нему, и Дюк (так его звали в Одессе) погладил меня по головке: вот я и получил благословение французского легитимиста!
Пробуждение.
Что я слышу? — голос милый
Песнь знакомую поет,
И, как Лазарь из могилы,
Тень минувшего встает.
Прояснися, прояснися,
Ранний сумрак вешних дней!
Сквозь туманы улыбнися,
Солнце юности моей:
После долгих треволнений
Вижу снова брег родной,
И толпа святых видений
Вновь мелькает предо мной.
Чудная звезда светила
Мне сквозь утренний туман.
Смело я поднял ветрило
И пустился в океан.
Солнце к западу склонялось,
Вслед за солнцем я летел:
Там надежд моих, казалось,
Был таинственный предел.
Запад, запад величавый!
Запад золотом горит:
Там венки виются славы!
Доблесть, правда там блестит.
Мрак и свет, как исполины,
Там ведут кровавый бой:
Дремлют и твои судьбины
В лоне битвы роковой!
В броне веры, воин смелый,
Адамантовым щитом
Отобьешь ты вражьи стрелы,
Слова поразишь мечом!
Вот блестит хоругвь свободы!
И цари бегут, бегут;
И при звуке труб народы
Песнь победную поют.
Разорвался плен суровый.
Кончилась навек война.
Узами любви христовой
Сочетались племена!
Гряньте звонкими струнами:
Где ты, гордый фараон?
Моря Чермного волнами
Конь и всадник поглощен:
Ныне правда водворится
В нашей Скинии святой.
Вечным браком соединится
Небо с юною землей.
Духов тьмы исчезнет сила.
И взойдет на небеса
Трисиянное светило —
Доблесть, истина, краса.
В этих стихах целая программа. Все мечты и планы, с которыми я оставлял Россию.
С Монте-Пинчио[6].
Там, над куполом святым,
Звездочка любви всходила
И на свой любезный Рим
Взором матери светила.
Но подчас она бледнела
И, как факел меж гробов,
Тусклым пламенем горела
Над могилами сынов.
И сокрылося, как сон,
Рима дивное виденье,
И ты снова погружен
В жизни мутное волненье.
И к Неаполя брегам
Ты летишь с печальной думой:
Там, гуляя по гробам,
Прояснишь ли взор угрюмый?
Нет! напрасно ты бежал
От души глухого стона
Под навес швейцарских скал
И под купол Пантеона.
Все прекрасное пройдет.
Ветерок струит ветрило
И к Германии унылой
Быстрый челн тебя несет.
Это было напечатано, кажется, в 35 или 36 году в «Московском Наблюдателе» в статье: «Отрывки из путешествия доктора Фуссгэнгера»[7].
Желание лучшего мира.
(Из Шиллера)[8].
Ах! из сей долины тесной,
Хладною покрытой мглой,
Где найду исход чудесный?
Сладкий где найду покой?
Вижу: холмы отдаленны
Зеленью цветут младой…
Дайте крылья! к вожделенной
Полечу стране родной!
Вижу, там златые рдеют
Меж густых ветвей плоды;
Зимни бури там не веют,
И не вянут век цветы.
Слышу звуки райской лиры,
Чистых пение духов,
И разносят вкруг зефиры
Благовония цветов.
Вот челнок колышут волны…
Но гребца не вижу в нем!..
Прочь боязнь! Надежды полный,
В путь лети! Уж ветерком
Парусы надулись белы…
Веруй и отважен будь!
В те чудесные пределы
Чудный лишь приводит путь.
Мой Роман
Ihr näht euch wieder
Schwankende Gestalten.
Гете[9].Г. Липовец, Киевской губернии 1821 год.
Принесли посылку с почты. — Откуда это? — из Житомира, от книгопродавца Глюксберга. Да что же это такое? — Это должно быть учебные книги для сына командира 2-го батальона 35-го Егерского полка майора Печерина. Дайте ж развернем, посмотрим, какие это учебные книги. — Вот они: 1. Discours sur l‘histoire universelle p. Bossuet. 2. Lettres à Emilie sur la Mythologie par Demontiers. 3. La Henriade de Voltaire. 4. Emile de J. J. Rousseau. [10]
Вот и все. Впрочем, Эмиль был не для меня, а для моего учителя, как руководство. Да! Судьба и мой учитель решили, что мне непременно надобно быть воспитанным по Эмилю. И чему тут дивиться? Учителю моему было около 24 лет от роду. Он был молодой человек очень приятной наружности с маленькими усиками и империялкою. Происхождением он был немец из Гессен-Касселя, он отлично говорил по-французски. Его звали Вильгельм Кессман. О религии его нечего и говорить. А в политическом отношении он был пламенным бонапартистом и вместе с тем отчаянным революционером. За каких-нибудь 50 руб. в месяц достать учителя и гувернера, все что угодно — отлично говорящего по-французски и по-немецки, с отличными манерами — ведь это для небогатого русского дворянина просто была находка! Я страстно полюбил моего учителя. Это была моя первая любовь. Он также привязался ко мне пламенною дружбою. Он действительно любил меня. Бог знает, что он думал обо мне, чего от меня ожидал и какие планы строил для меня в будущем. Вот один образчик: вот что он однажды писал ко мне: «Учитесь, развивайтесь, — поезжайте в университет. — Кто знает, что вам суждено в будущем? Может быть, какая-нибудь благодарная нация выберет вас своим первым Консулом, а я, осчастливленный этим событием, радостно окончу дни свои подле вас». Каково? — Вот и Дон-Кихот с его островом! И вот в каких идеях воспитывался сын бедного русского майора! — Впрочем, тут, может быть, была задняя мысль революции, как увидим после… Однако ж позвольте — не лучше ли было бы, например, вместо какого-нибудь немца, француза, отдать мальчика на воспитание какому-нибудь доброму священнику? — В этом позволено сомневаться. — Ведь я всего попробовал — даже православного воспитания. Вот, например, в 19-м году в Дорогобуже, Смоленской губернии, мы стояли на квартире в доме протопопа благочинного. Уж чего бы, кажется, лучше? Вот отец так и отдал меня ему в науку, и старик учил меня всему, что сам знал, — разумеется, когда был трезв. А то ведь он часто, как разгуляется, так хоть святых вон неси, так и пойдет в потасовку с своим сыном, парнем лет 20-ти. Не раз я видел, как этот благовоспитанный молодой человек таскал за бороду своего почтенного родителя. Но и тут, как и везде, женщина является добрым ангелом или благодетельной феею. Милая дочь протопопа, девушка лет 25-ти, очень меня полюбила и кормила меня вяземскими пряниками в великий пост. А пряников-то была бездна! Вся кладовая была переполнена сверху до-низу, все полки были уставлены ими, словно какое-нибудь книгохранилище. А откуда же взялись эти пряники? А вот видите — накануне великого поста прихожане приходили на поклон к протопопу. Каждый бил челом святому отцу и подносил ему пряник, и вот эти пряники-то мы с Наташею и кушали.