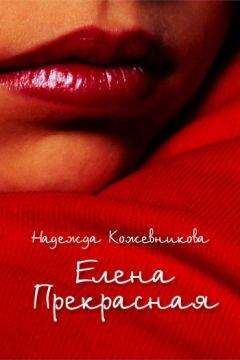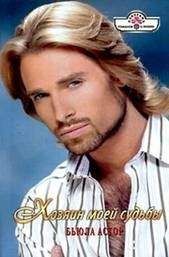Ян Карский - Мое свидетельство миру. История подпольного государства. Главы из книги
— Они не лгут. Польской армии больше нет. Пускай мы не сумели оказать никакого сопротивления немецким танкам и самолетам, но почему вы думаете, что другие части были лучше вооружены? Мы оказались совершенно не подготовленными, нам нечего противопоставить немцам, — продолжал поручик-пессимист. — А в наши дни на одной храбрости войну не выиграешь. Нужны авиация и танки. Вы видели хоть один наш военный самолет? Да у немцев их, наверно, в тысячу раз больше. Со всей остальной армией случилось то же, что и с нами. Мы много дней не получали никаких приказов от командования. Почему? Потому что никакого командования больше нет.
— Полно! — вмешался третий офицер. — Вы слишком мрачно смотрите на вещи. Пусть нам не повезло — это еще ничего не значит. Сейчас у нас нет контакта с основной частью армии, но вполне вероятно, что мы скоро о ней услышим. Оглянуться не успеете, как мы вернемся на фронт, и немцев вышвырнут из Польши быстрее, чем они в нее вошли.
— Что ж, — ответил пессимист. — Если оттого, что вы верите в нашу победу, вам будет лучше спаться, верьте себе на здоровье! Я не собираюсь отнимать у вас последние иллюзии.
Он говорил спокойно, веско, а потому убедительно. Поначалу я склонялся к его мнению, но нарисованная им картина была так неприглядна, что мне не хотелось ее принимать. Чтобы вся польская армия была разбита за три недели — не может такого быть! В конце концов, немцы не волшебники. И вообще, мы же знаем: Варшава обороняется, по всей стране идут бои.
Утром подошел длинный товарный состав. Советские солдаты стали заталкивать нас в вагоны. Никаких документов не проверяли, устанавливать личности даже не пытались. Просто считали по головам: шестьдесят человек — полный вагон. Видимо, путешествие предстояло долгое, потому что русский офицер велел нам набрать воды из крана во все, у кого какие есть, емкости. Одновременно прибывали новые колонны пленных, создавая дикую неразбериху. Как я узнал позднее, тогда много кому удалось бежать: люди находили места, которые хуже охранялись, выбирались из здания вокзала, а там уж им помогало гражданское население Тарнополя, особенно женщины.
Я попал в один из первых подогнанных к платформе шестидесяти вагонов, и мне еще целых два часа пришлось ждать, пока заполнятся остальные. Посреди вагона стояла железная печка, рядом с ней свалено кучей несколько килограммов угля. Из этого мы заключили, что нас повезут в холодные края, далеко на север. Всем раздали по полкило сушеной рыбы и буханке хлеба.
Ехали долгих четверо суток.
Каждый день поезд делал остановку на полчаса. В вагон приносили шестьдесят порций черного хлеба и сушеной рыбы. После раздачи пищи, часть из которой тут же съедалась, нам разрешали выйти из поезда на четверть часа. Мы могли немножко подышать свежим воздухом и пройтись взад-вперед по платформе, размять наконец затекшие ноги. А заодно посмотреть на местных жителей.
Уже на второй день мы заметили, что они одеты не как поляки и говорят на чужом языке. Последние сомнения исчезли: мы в России. Немногочисленные группки любопытных, по большей части женщины и дети, глазели на нас, не проявляя ни сочувствия, ни враждебности. Сначала мы не решались подойти к ним, потом кое-кто рискнул. Русские не отшатнулись, а продолжали смотреть на нас, некоторые даже улыбались. Они дали нам попить, женщины даже принесли папиросы, настоящее сокровище! Судя по всему, перед нами тут провозили других пленных, иначе откуда бы им знать, что может пригодиться.
На следующей остановке нам представился случай получше узнать, как относятся к нам русские. Посредниками и переводчиками служили двое-трое наших офицеров, бегло говоривших по-русски. Какая-то женщина протянула одному из них, здоровенному малому лет тридцати, не слишком опрятно одетому, но еще похожему на офицера, котелок с водой. Тот сердечно поблагодарил и сказал:
— Вы наши друзья. Мы будем вместе бороться с немецкими варварами и победим.
Но женщина нахмурилась и презрительно ответила:
— Вы? Вместе с нами? Вы, польские паны, фашисты?! Мы вас тут, в России, научим работать. Пусть для работы у вас сил хватает, а чтоб угнетать бедняков — нет.
Нас словно обухом огрели. Офицер так и застыл, а молодая женщина стояла и сурово смотрела ему в глаза. Она верила в то, что говорила, как в Священное Писание. Польскому пленному, как она считала, можно было дать воды, просто по-человечески, из жалости, но «братских чувств» со стороны русских он не заслуживал. Тогда я понял, какая пропасть разделяет наши страны, такие близкие по географическому положению, этнической принадлежности и языку, но столь далекие друг от друга в силу истории и разницы политических режимов. По мнению этих людей, готовых поделиться с нами водой, именно мы, польские офицеры, были виноваты в розни между двумя странами. Мы в их глазах были сворой господ, панов-бездельников, неисправимых паразитов.
На пятый день поезд остановился в неурочное время. Мы доехали до места назначения. Вагоны открыли, нам велели выйти и построиться в колонну по восемь человек. Неподалеку виднелась деревушка, столь убогая, что ей даже не полагалось станционного здания. Только голая платформа. Несколько разбросанных домиков — вот и вся деревня.
С той минуты, как мы высадились из поезда, и в продолжение всего времени, проведенного в России, у меня не выходила из головы мысль о побеге. Я тосковал по родине, чувствовал себя потерянным, забытым Богом и судьбой и видел перед собой единственную цель: вернуться в Польшу, вступить в ряды нашей армии, которая, как я, несмотря ни на что, верил, все еще ведет тяжелые бои, и отомстить за ту страшную бомбардировку в Освенциме первого сентября 1939 года.
Нас куда-то погнали, и мы побрели, под резким ветром, с трудом переставляя ноги и переговариваясь на ходу о том, что с нами будет. Те, кто постарше, как водится, вели себя мужественно и принимали свою участь достойно и безропотно. Мы же, молодые, стонали, жаловались, строили планы восстания, прикидывали шансы на побег.
Но за несколько часов изнурительного марша все мысли о побеге и восстании улетучились. Только теперь мы по-настоящему ощутили, какая страшная беда на нас обрушилась и как далеко от нормальной жизни забросило нас за каких-то три недели. Я и сам до этого не сознавал, что был решительно отрезан от всего, что мне дорого: от близких, от друзей, от всех надежд на будущее. И каждая мелочь, каждый час словно расширяли и углубляли эту пропасть. Я нагнулся подтянуть лакированные кожаные сапоги, которые больно натерли мне ноги, и вдруг увидел, как дико смотрится эта роскошь на русской дороге, покрытой коркой затвердевшей грязи. Сапожки, заказанные у Хишпанских, лучших варшавских сапожников! Я так долго ждал эту обновку! Меня мучила жажда, и я вспомнил вина, которые подавали на балу в португальском посольстве, музыку, беззаботное настроение, сестер Мендес… Не прошло и месяца, а как все переменилось!