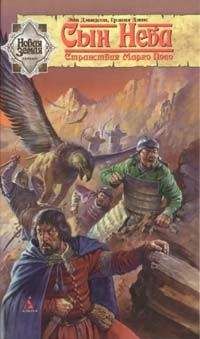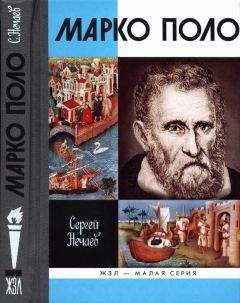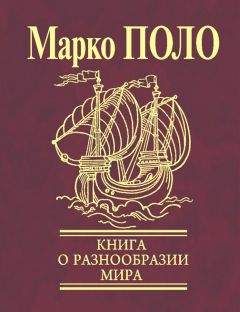Геннадий Горелик - Андрей Сахаров. Наука и свобода
Что все это означало для него, физика с чувством нравственного долга? Об этом рассказал в статье «Смерть Лебедева» знаменитый русский биолог Климент Тимирязев (1843—1920), взяв эпиграфом лермонтовское «Погиб поэт — невольник чести».
Лебедев умер… Мог ли я, годившийся ему в отцы, подумать, что дрожащей, старческой рукой буду когда-нибудь выводить эти слова? <> Был момент, когда я выступал его единственным защитником, — момент, когда он готов был бросить Московский университет и бежать в Европу. Не раз повторял я с гордостью, что сохранил его России, а теперь повторяю с ужасом: не лучше ли было сохранить его для науки?
В громадном институте, на устройство которого было потрачено немало его сил, для него нашлась жалкая квартира, рабочая комната — в другом этаже, выше, да темный подвал для работ его учеников, и это — при обозначавшейся уже болезни сердца. Молодые силы все преодолели; могучий дух был еще сильнее тела. Закипела работа, а с нею пришла и слава, — сначала, конечно, на чужой стороне, а затем и у себя. Последний съезд в Москве был торжеством Лебедева. Впереди, казалось, открылась длинная вереница лет кипучей деятельности на пользу и славу родной страны; но те, кто распоряжаются ее судьбами, решили иначе.
Волна столыпинского «успокоения» докатилась до Московского университета и унесла Лебедева на вечный покой.
Это — не фраза, а голый факт. Хочу ли я этим сказать, что это была одна из тех горячих голов, которых факты окружающей политической жизни подхватывают, отрывают от обычного излюбленного дела? Нимало. Между людьми его возраста я, может быть, не встречал другого, с таким леденящим, скептическим недоверием относившегося к способности русского человека, «славянской расы», как он часто говорил, не только к политической, а просто к какой бы то ни было общественной деятельности. Как будто он предчувствовал, что сама жизнь готовила ему убедительное, но для него роковое, тому доказательство. И этот-то, не веривший в политику, уравновешенный, всецело преданный своему делу — науке, — человек пал жертвой тех, кто лицемерно выставляют себя защитниками науки от вторжения в нее политики.
Да и дилемма, которую ему приходилось разрешать, была поставлена не политическая, а простая человеческая. Ему говорили: будь лакеем, беспрекословно исполняй, что тебе приказывают, забудь, что у тебя есть человеческое достоинство, что у тебя есть честь, или уходи. Он ушел, — ушел, вполне сознавая, что значит для него этот уход. Он сознавал, что он не из тех, которые эффектно удаляются по парадной лестнице, зная, что вернуться можно втихомолку и по черной. Не был он из тех, кто при таких условиях уходят с барышом в практическую жизнь; для него жизнь без науки не имела raison d’etre [смысла].[4]
Практическая жизнь, однако, пришла на помощь науке. В России к тому времени уже появились люди, которые желали своим «барышом» служить науке и просвещению. К моменту, когда Московский университет поразила катастрофа 1911 года, в Москве уже несколько лет действовали созданные на частные средства Университет Шанявского и Леденцовское Общество (с 1908-го и 1909 года). Их полные названия — Московский городской народный университет и Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений. А для своих основателей это были Открытый университет и Общество друзей человечества, что означало общенародное назначение, доступность, общественное самоуправление — свободу от императорской бюрократии. Имена золотопромышленника Альфонса Шанявского (1837—1905) и купца Христофора Леденцова (1842—1907) могли быть известны не меньше имен Нобеля и Гуггенхайма, если бы не социалистический катаклизм российской истории.
В ответ на события в Московском университете, Университет Шанявского и Леденцовское Общество помогли воссоздать лабораторию Лебедева во временном помещении и решили построить для него физический институт. Лебедев работал над проектом института, но не дождался его строительства. Можно только гадать, какие успехи опытных наук и их практические применения могли быть достигнуты под его руководством.
Если говорить о главном научном результате Лебедева, то первое его применение он нашел сам в астрономии для объяснения движения комет под суммарным воздействием тяготения Солнца и отталкивательной силы его света. Научным фантастам это подсказало идею космических кораблей-парусников, разгоняемых солнечным светом, не нуждающихся в топливе и не засоряющих космические просторы выхлопными газами… Такое практическое и неземное — применение наверняка было бы по душе и Лебедеву и Леденцову.
А что бы они сказали о страшном земном применении, ставшем реальностью полвека спустя? Можно сказать — антиземном. Все дело в яркости света. В 1945 году на Земле появился источник «ярче тысячи солнц» — атомный взрыв. И еще спустя десять лет с помощью этого источника вспыхнул огненный шар ярче миллиона солнц — термоядерная бомба. Свет, давление которого с таким трудом обнаружил Лебедев, спустя полвека стал инструментом создания чудовищной силы. Энергия, излученная в атомном взрыве, сдавила вещество, безобидное в обычных условиях, до звездных плотностей, и в результате вспыхнула термоядерная звезда. И оба взрыва — атомный и термоядерный — послушно подчинялись одному и тому же физическому закону
E = mc2.
Российский путь к термоядерному солнцу начался в здании, построенном для Лебедева перед революцией. В этом здании, в Физическом институте Академии наук им. П.Н. Лебедева, в конце 40-х годов изобрели советскую водородную бомбу.
По иронии истории именно тогда именем П.Н. Лебедева орудовали казенные советские патриоты в их «борьбе с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом». А в Московском университете диссертацию о Лебедеве написал штатный сотрудник органов цензуры — органов, которые вместе с другими компетентными органами следили за порядком в стране.
Можно не оправдывать замечательного российского физика в этом. Как не надо было в 1911 году защищать его от самозванных патриотов, обвинявших Лебедева в том, что в доме подозрительного поляка на еврейские деньги он создал странную лабораторию, в которой занимается неизвестно чем.[5]
Наследие Лебедева и КороленкоНаследие Лебедева, как видно из эпиграфа к этой главе, включает в себя не только науку. Для Сахарова Лебедев был одним из эталонов российской интеллигенции.
Это было странное сословие. Начнем с того, что само слово «интеллигенция», несмотря на его латинскую внешность, пришло в европейские языки из России в начале XX века, накануне драматических событий в Московском Университете. Новое слово понадобилось европейцам, чтобы назвать то, чего у них не было. Люди, занятые интеллектуальным трудом, в Европе, конечно, были, но их не объединяло чувство своей моральной ответственности за происходящее в обществе.