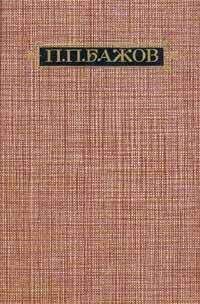Павел Бажов - За Советскую правду
Чуть не единственный разговор здесь: нет товаров и сбыта хлеба, нет заработков.
Даже «домовитые мужики», вроде Мыльникова, и те потеряли надежду устроить жизнь с помощью иностранных рвачей и своих жуликов, обалделых от пьянства и распутства офицеров.
Сначала такие «домовитые», как видно, помогали новой власти, хватали деревенских большевиков и чувствовали себя хозяевами в деревне.
Теперь затихли, прижались и покорно выполняют — «за разных пьяниц» наряды без очереди.
Остальные крестьяне крепко запуганы карательными отрядами каннского генерала Баранова и подозрительно смотрят на незнакомого городского человека: не подослан ли?
«Пожалуй, мои документы дальше и показывать не придется», — думает Кирибаев, вспоминая, как удалось обменить «слепуху» на удостоверение учителя Бергульской школы.
«Вот тебе и три подписи с печатью! — улыбается он своим мыслям. — А книжку „для взимания двух обывательских“ лучше и не вынимать из кармана».
Длинная улица села кончилась. Опять началась намозолившая глаза нудная зимняя степь. Дорога стала еще хуже.
На узенькой ленточке санного пути можно было разъехаться только порожнякам.
Привычные степные лошади осторожно сходятся друг с другом чуть не плечо к плечу. Ухитряются как-то не зацепиться запретом. Цепко держатся против встречных саней, которые от этого опрокидываются в сторону. Пассажирам приходится кувыркаться в снег, но лошади удерживаются на твердой тропинке, и дело идет все-таки спорее.
Попутный обоз удается обогнать только на особо сильной лошади, которая может скакать по глубокому снегу, как лось.
С половины дороги стали попадаться встречные обозы с грузом.
Мыльников ворчит на себя:
— Надо бы часочком пораньше. Вымотаешь теперь булануху.
Приходится сворачивать в снег, подальше от обоза, — иначе завалит возом. Когда пройдет обоз, надо вылезать из саней, чтобы лошади легче было выбраться на полоску дороги.
Возня в снегу вконец измучила больного Кирибаева. Он заходится в приступах надрывного кашля.
Даже Мыльников пожалел:
— Не доедешь ты, парень, до места. Полечился бы где. Полторы сотни верст ведь еще. А вишь нажимает — даром что под масленку пошло. На блины, видно, стужа.
— Доберусь как-нибудь. Прогреться бы только.
— Это ты верно. Баня — первое дело, — бороздит Мыльников по больному месту.
Кирибаев беспомощно ерзает в своих двух шубах от жгучего зуда по всему изъеденному телу.
Мучительно сверлит давнишняя мысль: «В баню бы! В самый жгучий жар».
Тут же в сотый раз повторяется другая: «Не очень же ловко разъезжать здесь казачьим сотням. Прикрытия вот только для стрелков нет!»
Хоть бы кустики какие в стороне!
ПО УРМАНУ
На станке Кирибаеву посчастливилось. Оказался встречный ямщик из Дорофеевки, который обрадовался «за по-пути» загнать очередь.
— Погрейся часок. Лошадка вздохнет, и айда. На свету приедем.
— Видное дело, — поддерживает хозяин избы. — Невелик волок. Тридцать верст как, поди, не доедете.
— Дорога ныне из годов только. Обрез, понимаешь, в сажень. Напросте оглобли береги, а с возами их сколь переломано.
— Нашел добра — оглобли считать. Мало их в урмане? Лошадям убойство, это скажи!
Начались разговоры о заваленных возах, искалеченных лошадях и надорвавшихся хозяевах.
Под эти разговоры Кирибаев поспешно глотает какую-то красноватую горячую жидкость и забирается на полати.
Передышка недолга. Ямщик торопится.
Опять надо барахтаться в снегу.
Верст через десять от станка степь стала переходить в лес. Начали попадаться отдельные кусты и деревья. Больше талинник и осина. Потом появились группы берез, изредка сосна. Еще дальше — ельник, пихтач, кедровник.
Но нигде не видно сплошной лесной стены, как на севере России или на Урале.
Деревья разных пород, корявые, подсадистые, стоят далеко друг от друга. Все кажется, что это только начало леса. Но едешь сотни верст — картина не меняется. Со всех сторон видишь на равнинной местности разнопородное редколесье. Дальше к северу только чаще встречаются пихта и кедровник, но везде в смеси с березой, осиной и кустарниками.
Открытых больших полян тоже не видно.
— Где же у вас пашни?
— По гривкам пашем. Где посуше. Вон тут надысь пахоть была, — указывает ямщик на группу редких деревьев.
— Заброшена?
— Как знать? Может, кто и вспашет. У нас и так бывает: один бросит, другой подберет. Не поделена земля-то.
— Вовсе и хозяев нет?
— Зачем нет? Иной много лет пользует, чистит. Ну, а бросит — хоть кто бери. Просто у нас. Не в Россее. Завидного только нету. Скребешь на ем чортовом болоте, — а соберешь… всего ничего. Жизнь тоже!
— А что сеете?
— Пшеничку норовим развести, да вымерзает. Овсы и льны — эти ничего. Родятся. Ну, рожь годом бывает.
Деревни пошли совсем не такие, как в степи. Глину и плетень сменили толстые сосновые брусья и жерди. Соломенных крыш не стало. Пошел гонт, стружка, двойной тес. Дров не жалеют. В избах, несмотря на одинарные рамы, жарко.
С освещением зато стало хуже. Скипидара в лампах нет и в помине, сальников тоже нет. Везде чадит и полыхает лучина.
Крестьянские разговоры переходят в речи охотников и лесопромышленников.
— Почем лисицы? Каков наст на Кривом? Сколько зверя забили остяцкие? Спрашивают ли лодку в Каинске? Много ли плахи на базаре?
Общее во всем этом — нет сбыта, жить нечем.
— Не угложешь его — урман-от.
О власти здесь вовсе не говорят. На проезжего смотрят косо, но узнав, что это учитель, немного смягчаются и без большой задержки дают лошадь.
Документов не спрашивают и записи не ведут.
На третий день своего бултыханья по урманским снегам Кирибаев добрался до Биазы. Это волостной центр.
Секретарь волостной управы, или, как все его зовут, писарь, встречает приветливо. Поглаживая свои жесткие унтер-офицерские усы, он успокаивающе говорит:
— Теперь уже вам пустяк осталось. Не больше десяти верст. Только в сторону это от тракта будет.
Оказывается, что тропа, по которой до сих пор ехали, была трактовая.
Пока нарядчик ходил за лошадью, Кирибаев расспрашивает писаря о Бергуле. Тот охотно отвечает:
— Одни кержаки живут, девяносто девять дворов. Никого постороннего не пускают.
— Со школой, — это верно, — там трудно будет. Мастерицы учат. Такую бучу подымут, знай, держись!
— Главное, баба. Своих-то мужиков погаными почитают, коли съездят куда подальше. Из одной чашки есть не пустят, пока к попу не сходят после дороги.