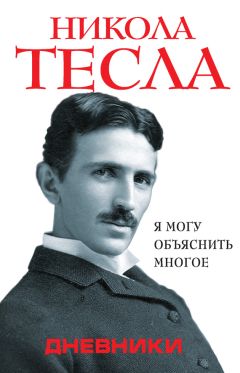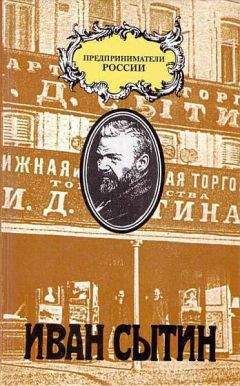Иван Сытин - Жизни для книги
— Иван Дмитриевич, понимаешь ли ты, кто теперь дядюшка Яков? Угадай! Ребятенки, — обращался он к остальным, — кто у вас дядя Яков?
И весь хор в несколько десятков голосов кричал:
— Дядюшка Яков — барин.
— Иван Дмитриевич, вот кто твой дядюшка Яков: барин.
Вообще надо сказать, что торговали офени прекрасно.
Из всей массы офеней (а их были десятки тысяч) некоторые путем больших трудов и лишений превращались впоследствии в настоящих торговцев.
Встречаясь через много лет на Нижегородской ярмарке со своими старыми друзьями, мы часто вспоминали нашу молодость и совместную прежнюю работу.
— Когда же ты, Ванюша, — говорили мне, — займешься настоящим делом? И как только тебе не надоест с таким дерьмом возиться? Всю жизнь человек чужим умом торгует, из всякой головы черпает и продает.
Я, как умел, отмалчивался.
— Кто к чему приставлен, братцы… Вот вы говорите — дерьмо, а сами ко мне в лавку за дерьмом присылаете… Значит, интересно.
Как особенно яркую фигуру мне хочется помянуть здесь одного из моих друзей, Ф. Я. Рощина, который тоже начал с офенства.
В маленькую лавочку на ярмарке в селе Холуе Владимирской губернии пришел как-то ко мне деревенский оборвыш.
— Что тебе?
— Да товарцу бы.
— Кто ты?
— Я сирота, подпасок. Три года пас скотину. Вот скопил 5 рублей. Ребята наши торгуют книжками и картинами. Вот и я хочу попробовать… Поучи, сделай милость. Дай товарцу на 4 рубля, а рублик оставлю на харчи. Да поверь рублика на 3, с легкой руки, Христа ради. Уплачу, будь покоен.
— Грамоте знаешь?
— Нет, неграмотный.
Он стал вынимать деньги (они висели у него на кресте), распахнул сермягу — весь голый: вместо рубашки клочья висят.
Вот какой кредитоспособный купец!
А кем стал этот голый, безграмотный подпасок?
Купцом города Яранска Вятской губернии, попечителем школ, почетным гражданином Яранска!
Под конец жизни он пошел по иному пути.
В страшной глуши, в стороне от путей сообщения и вдали от города, в лесу, он построил женский монастырь. Зажег свою лампаду и умер…
Вспоминая тысячи лиц, промелькнувших передо мной, я чувствую к тебе глубокую благодарность, мой дорогой брат офеня.
Ты объединил нас не только с городом, но и с каждой деревенской избой.
Упорным трудом пробиваешь ты себе путь к благополучию. Полжизни пройдет в тяжком труде, пока тебя оценят. А сколько из них погибнет на этом непосильном пути!
Нужно быть сильным, крепким, чтобы выйти на дорогу жизни.
По мере развития дела росла и моя дружба с хозяином. Наши отношения с ним вообще были патриархальны, жили мы по старинке. Я чувствовал себя не столько служащим и приказчиком, сколько членом семьи или воспитанником в доме воспитателя.
Как отец сыну, Шарапов дарил мне шубу, костюмы и делал другие подарки. Как отец сына, он распекал меня за молодые шалости и провинности.
Помню, как досталось мне однажды, когда я провел воскресный вечер с манухинскими приказчиками и явился домой в одиннадцатом часу вечера.
Это было неслыханное нарушение домашних правил. У Шарапова все мы ужинали в 9 часов и сейчас же отходили ко сну. Без разрешения хозяина никто не смел уходить со двора. Поэтому мое возвращение в одиннадцатом часу произвело неизгладимое впечатление.
Мне отворил дверь сам хозяин с фонарем в руках. Оказывается, он не ложился и был в большой тревоге.
— Ты где это пропадал до полуночи? Как тебе не стыдно тревожить меня, старика? Где твоя совесть?
Я в полном смущении пролепетал:
— Простите, Христа ради, Петр Николаевич… Это больше никогда не повторится.
Моей работой Шарапов был всегда доволен. Не раз он говорил мне:
— Работай, хлопочи — все твое будет. Я передам тебе лавку по духовной (детей у Шарапова не было). Вместо жалованья я мог брать денег, сколько нужно, на мелкие расходы. Помещение, стол и платье были хозяйские.
В 1876 году я попросил у хозяина позволения жениться.
Мне было тогда 24 года, и по молодости лет я еще не думал серьезно о браке, но наш переплетчик Гаврила Иванович Горячев, работавший для Шарапова, задумал меня сосватать и, как водится, обратился с этой мыслью прежде всего к моему хозяину.
— Петр Николаевич, Ванюшу вашего женить бы пора. Парень он молодой, как бы чего худого не вышло…
— А что ж, это ты, парень, дело говоришь…
— Да как же, в молодых годах мало ли что бывает: сегодня вожжа под хвост попадет, завтра попадет — что хорошего?
Хозяин мой очень хорошо знал, как велики были соблазны Нижегородской ярмарки, где разгул был почти обязателен для торгового человека, так как покупатели (в особенности сибиряки) требовали, чтобы каждая сделка была вспрыснута. И это соображение окончательно склонило его к мысли, что меня надо женить.
Со мной переплетчик Гаврила Иванович заговорил о моей женитьбе только после того, как договорился с хозяином.
— Что ж, Ваня, пора, брат, тебе и жениться… Будет болтаться холостяком.
— Да тебе какая забота?
— А я тебе невесту сосватаю… Очень подходящая девушка есть на примете…
— Ну сосватай…
Так полушутя, полусерьезно подошел я к решению этого важнейшего жизненного вопроса.
В виде особой ко мне милости хозяин мой согласился поехать на смотрины невесты вместе со мной. Но так как он боялся разговоров, то из скромности сделал это тайно.
— Ты иди вперед и подожди меня на Таганке, а я вслед за тобой на извозчике приеду.
На Таганке мы встретились и пошли пешком уже вместе… К нам присоединился и сват Горячев.
Отец невесты был кондитер для свадебных балов, человек пожилой и вдовый. Дочери его, Евдокии Ивановне, было только 16 лет.
Я не знал своей невесты, но года за два перед тем, на свадьбе Горячева, я видел ее подростком.
Нас приняли очень любезно и запросто, но так как нас не ждали, то никакого специального угощения приготовлено не было.
— Что ж, Иван Ларионович, принимай гостей, угощай нас хоть чаем…
Украдкой я все поглядывал на невесту.
Красивенькая, совсем юная, тихая девушка, она бесшумно скользила по комнате.
— Насколько весело, Евдокия Ивановна, проводите время? — обратился я к невесте.
— Какое же у нас веселье? Мы для чужого веселья работаем: для свадеб, балов. А наше удовольствие тогда, когда в церковь пойдешь или в театр с папашей съездим…
Разговор не клеился. Шарапов молчал, как сыч, безмолвствовал и хозяин дома. Было тягостно и неловко.
Но когда мы с Шараповым очутились уже на улице, язык у него наконец развязался.