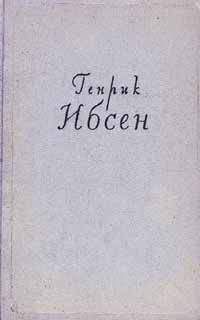Екатерина Олицкая - Мои воспоминания
Неизвестного прихода Выл такой сердитый поп, Что дьячка четыре года Бил подряд кадилом в лоб. Но дьячок раз рассердился, Ленту взял, Чтобы поп, листая книгу, Той страницы не сыскал. Книжку поп берет под мышку, На амвон идет И, развертывая книжку, Говорит: — Господь речет. По листам пальцы скакали, Поп страницы не сыскал, Но при каждой он странице Возглашал: — Господь речет. Тут дьякон к нему идет. — Батька, что ж Господь речет? «Господь речет, что ты скотина, Распроклятый сущий вор, Всех нечистых образина И всех демонов собор. Зачем ленту эту спрятал, Чтобы черт тебя упрятал! Я святого потерял.» Тем обедню и скончал.
А мужики и бабы стоят да крестятся, добавляя от себя: каждый рассказчик.
Часто слышали мы от крестьян о скаредности попов, о том, как попы отказываются крестить, хоронить, причащать, если им не принесут подношения: яиц, масла и т. п. Под влиянием таких рассказов складывалось мое отношение к духовенству. Говела я первый раз в жизни, когда мне исполнилось 8 лет. При поступлении в школу к заявлению о принятии в гимназию должна была быть приложена справка о говении, и мама повела меня с Аней в церковь на исповедь к священнику. Я явно трусила, я приставала к маме с вопросами, что мне говорить священнику, в каких грехах каяться. У нас дома не постились никогда, не постились и перед исповедью. Никакой торжественностью не был обставлен дома и наш обряд говения. Справка для школы нужна, хочешь в школу — надо говеть. Все же мама надела на нас новенькие платья, завязала в косы новые ленты. В кулачок мне мама сунула полтинник и строго велела отдать его после исповеди батюшке.
Храм Божий, с его тишиной и полусветом, с высокими сводами, с коленопреклонными молящимися не мог не произвести воздействия на душу ребенка. С зажатым полтинником в руке, вслед за сестрой, я подошла робким шагом к священнику. Сам он рукой наклонил мою голову и покрыл ее епитрахилью. Сперва он ждал от меня исповеди, задавал мне какие-то вопросы, но я онемела. Тогда он сам произнес в поучение какие-то молитвенные слова, закрестил меня и разрешил идти. Стремительно вырвалась я из-под покрова и опрометью бросилась к маме. Я уткнулась лицом в ее юбку, прижалась к ее коленям и вдруг почувствовала, что полтинник по-прежнему крепко зажат в моем кулаке. Никакие уговоры отнести полтинник батюшке не помогли. Отнесла его Аня. На другой же день, во время причастия, мне было стыдно приблизиться к священнику, и вино и просфору я проглотила со страхом. Второй и последний раз в жизни я говела, тоже ради справки, при переходе из третьего класса в четвертый. На этот раз мы говели в деревне. Ближайшая церковь находилась в селе, лежащем в пяти верстах от нашего Сорочина, и служил в ней тот самый поп, который приезжал к нам по праздникам славить Христа. Чтобы вовремя попасть в церковь, нам надо было выехать из дома очень рано, до рассвета. Обычно мы вставали поздно, и вся прелесть весеннего утра была нам незнакома.
Все началось необычно. Мама нас разбудила в 2 часа ночи, когда еще весь дом спал. При мерцании ночника мы тихонько оделись и вышли на крыльцо. Лошадка, запряженная в пролетку, уже ждала нас. На дворе едва серело и было прохладно. Мама в этот раз не ехала с нами. В пролетку уселись я с сестрой и Акулина. Тихон, кучер, шевельнул вожжами, и лошади тронули. Было зябко. Мы с сестрой прижались друг к другу и еще сонными глазами озирались вокруг. Все было ново, таинственно, причудливо. Давно знакомые предметы казались неведомыми привидениями, неожиданно выплывающими из тьмы и тумана. Как необыкновенно хорош наш русский простор в эти предрассветные часы! Гладь полей, необъятный купол неба над нами. Глаз скользит, ничто не задерживает его, ни во что он не упирается, ни обо что не спотыкается. Только рассвет, только тени и краски, неуловимые и изменчивые, да шорохи, да дуновение ветра и шелест трав. Такая тишина до первого солнечного луча, до первого птичьего голоса. А когда лучи солнца осветят восток, когда, наконец, над линией горизонта начнет выплывать кругло-огненный шар, какой гаммой красок вспыхнет эта ширь! Как меняется весь этот мир вокруг тебя, как сейчас же находит отклик в тебе самой! Тайна природы, тайна мироздания, его богатство, сила, могущество захватывают тебя, и в ком есть хоть капля поэзии, не может не слиться с просыпающимся к жизни миром, не ощутить своего единства с ним, с его тайной, великой тайной природы!
Очарованная, оглушенная этим сельским утром подъезжала я к сельской церквушке. Зашла в нее, а таинство продолжалось. Высокие своды церкви тонули в полумраке. Скупо горели свечи, в их мерцании царские врата искрились золотой резьбой, а почерневшие лики на старых иконах, казалось, хранили какую-то тайну. Неведомо как — царские врата открылись, поток яркого света хлынул из алтаря, и вышел на амвон жирный поп, и в руках его было Евангелие с лентой-закладкой, а ко мне подходил наш дьяк с тарелочкой, на которой лежали медяки. Я положила свой пятак в общую кучу и ни во что уже не верила. Хотелось мне поскорее уйти из этого храма, и я думала о том, что можно заразиться, принимая причастие из общей ложечки.
В гимназии, в классе на задней парте сразу за моей спиной сидела рослая и тупая девочка. Однажды, во время урока я услышала презрительный шепот: «Выкрестка, у, выкрестка». Я сразу поняла, что это слово относится ко мне. Первым порывом моим было обернуться к ней и со всего размаха хлопнуть ее книгой по голове. Я, вероятно, так бы и сделала, но меня удержала Рая, моя лучшая подруга, еврейка, сидевшая рядом со мною на парте. Она сжала мою руку и шепнула: «Дура она — и все!» С Раей мы об этом больше не говорили, дома я тоже не рассказала никому о переживании моем, неясном, смутном, но тягостном. Года через три, а то и четыре, я много спорила с Раей о том, имел ли право мой отец креститься. Рая доказывала, что он не имел права отречься от своего гонимого народа. Я возражала, что принадлежность к народу не является фактом рождения, что папин народ не чуждое ему еврейство, а русский народ, в частности, русское крестьянство. Но уверена в своей правоте я в то время не была. В споре с Раей мне хотелось видеть отца безупречным.
В семье нашей мне часто приходилось слышать разговоры о деле Бейлиса, о волне погромов, прокатившейся по югу России. Себя я считала русской, но, зная о юдофобстве, на вопрос о моей национальности всегда подчеркивала — папа еврей, мама русская. Анка Большая
У моего отца была сестра, тетя Ида. Жизнь ее сложилась неудачно. Муж бросил ее с двумя маленькими дочерьми — Фаней и Аней. Девочки изредка гостили у нас в деревне. Были они значительно старше нас и, по существу, я их мало знала. Выросши, Фаня удачно вышла замуж за директора Бельгийской трамвайной кампании и жила в Курске. Мы изредка ходили с мамой к ней в гости. Я смущалась у них и не любила туда ходить. Младшую сестру Фани, в отличие от моей сестры Ани, мы называли Анкой Большой. Жила она в Киеве, где училась и куда мама с папой высылали ей деньги, кажется по 25 рублей в месяц. И вот, я и Аня уловили из разговоров старших, что с Анкой что-то произошло, что от нас что-то скрывают. И когда мы узнали, что Анка приезжает к нам в Курск, наше любопытство было разожжено.