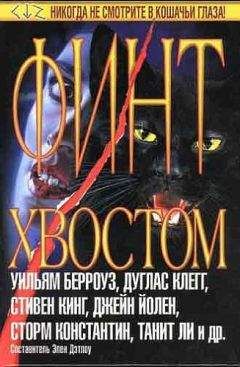Любовь Скорик - Произведения
Сообщили, как положено, в милицию. Пришёл участковый. Он и обнаружил, что в грелке-то не булькает, а позвякивает. Недолго думая, отвинтил пробку — и все ахнули. Там полно золотишка. Разного: песочек, кусочки, цепочки. А ещё — серёжки да колечки с камушками разными. С настоящими! Должно быть, грелочки этой хватило бы не на один обещанный ею дом — на целую улицу и не то что на корову — на стадо. Да и уж, конечно же, предостаточно, чтобы до Харбина-то доехать и ей самой с Майкой, и тому, кого ждала всю жизнь да так и не дождалась. Оно, может, и ждать-то оставалось всего ничего, самую малость. Да вот Майка подвела со своей любовью.
И ещё одна диковина. Ценнее содержимого грелки оказался портрет барышни над топчаном. Его сразу забрали в музей и повесили среди старинных именитых картин. Только в раму вставили. А туда ведь что попало не возьмут. Там же сплошь — одни редкостные диковины. Их в своё время навезли отовсюду, пыжась переплюнуть друг друга, тогдашние отцы города — купцы. Наш захолустный городишко и знаменит-то стал только этим музеем. К нам специально едут, чтобы там побывать, о нём в умных книгах пишут. И вот, чтобы там — да наша Аныванна, даже если ещё — Анюта?! На старой холстине? Из тёмного вонючего флигеля? Да быть не может!
Соседи толпами ходили в музей, самолично проверяли. И ведь точно: вот она, наша Анютка, на втором этаже, в огромном светлом зале, прямо напротив входа. Впрямь она, не ошибёшься. Правда, сильно за это время переменилась. Смешинки из глаз пропали. Вроде повзрослела и построжела она. Да оно и понятно — не до смеху тут. С соседями здесь нашей Аннушке явно не повезло. С одной стороны генерал какой-то в золотых эполетах да с усищами страшенными, как на врага уставился. С другой — толстая голая тётка в траве развалилась — срамотища одна, от стыдобушки глаза зажмурить хочется. Да и тяжёлая золочёная рама, в которую всунули Анюту, совсем ей не идёт, ну вот никак не личит!
Непривычно яркий свет и многолюдье явно смущают её, она конфузится и робеет. К тому же после всегдашнего сумрака во флигеле она, кажется, тут наконец-то разглядела то, что столько лет всё старалась и никак не могла рассмотреть где-то там, впереди. И радости это не прибавило. Перестала она напряжённо вглядываться в даль, погасло озорное любопытство. Вместо него в глазах поселился угрюмый покорный страх. Даже божья коровка на щеке вроде испуганно скукожилась, вылиняла, стала почти неприметной.
Его лучшее произведение
Писатель С. попал в больницу. Угодил неожиданно и нелепо. Сдал в издательство свой новый роман, над которым корпел без малого семь лет, и пребывал в отличном расположении духа. Можно сказать, блаженствовал. Наконец-то можно было позволить себе отдых, и он отдыхал. Бесцельно бродил по улицам. Сидел в сквере на протёртых чуть не до дыр скамейках (ведь сидит же здесь кто-то хоть каждый день!). Часами глядел на играющих детей, на читающих газеты стариков и вяжущих старух, на прячущиеся в тени парочки. Иногда забредал в кинотеатр, сидел там. Потом выходил среди сеанса на солнце и радовался ему, как северянин после долгой суровой зимы. Давно уже забытое чувство полной свободы захлёстывало его, будоражило, слегка пьянило. Он не раз ловил себя на том, что вдруг замурлычет что-то под нос или вдруг некстати засмеётся. Его подмывало показать язык, когда проходил мимо своего непривычно пустого письменного стола. Вот, мол, погляди: сколько лет я был твоим рабом, и тебе, должно быть, поверилось, что ты — мой господин и повелитель. Э нет! Вот он я, прохожу мимо тебя, даже не взглянув в твою сторону. А ты стоишь сиротливо, лишённый даже своих единственных богатств — бумаг.
Вместе с писателем С. наконец-то отдыхала и его жена Ольга. Он давно уже шутя пообещал ей по окончании романа полный отпуск. И теперь она, отсчитав по календарю 24 рабочих дня, прибавила к ним четыре выходных, обвела красным фломастером дату своего возвращения и укатила на Дальний Восток к своей сестре. Это была давняя её мечта.
С женой ему несказанно повезло. Ольга была его опорой, защитой, правой рукой. Давно уже она бросила свою работу в школе и стала его секретарём, делопроизводителем, ангелом-хранителем. Ольга печатала набело его произведения, вела всю переписку (чаще всего он только ставил свою подпись), отвечала на беспрерывные телефонные звонки, сама назначала ему встречи, без которых было совсем уж не обойтись, всячески оберегала его от родственников, друзей, благодарных читателей, которые так и норовят растащить по минутам всё его время. И, надо отдать должное, Ольге непостижимым образом удавалось все эти годы обеспечить ему покой и возможность работать.
И вот теперь она уехала на целый месяц. Разом рухнули стены, отделявшие его от шумного беспокойного мира. Но сейчас он нисколечко не возражал. Пусть себе шумит и крутит его в своём водовороте. В конце концов он заслужил остановку, передышку от тихого своего кабинета, от власти письменного стола.
Уже через пару дней С. искренне пожалел свою жену, только сейчас начиная постигать, как нелегко даётся ей его покой. Телефон звонил беспрерывно. Половина звонков были глупы и никчёмны. Другая половина — небесполезна и даже нужна ему, но требовала каких-то действий. И все они отнимали уйму времени. Кто только не звонил: издательства, библиотеки, какие-то литературные объединения, начинающие авторы, знакомые и вовсе неизвестные, даже школьники. Знакомые, услыша в телефонной трубке его голос, пугались, сразу начинали выспрашивать, что случилось и где Ольга. И он радостно оповещал всех, что та в отпуске, а он вот закончил роман и сейчас абсолютно свободен.
Словом, писатель С. наново открывал для себя, сколь беспокоен, шумен и криклив окружающий его мир. Даже тётя Шура, уже много лет приходившая к ним, чтобы прибрать квартиру и приготовить обед. Всегда казавшаяся ему бессловесной, как тень, она неожиданно оказалась такой болтливой, что, если бы не отдых, данный им самому себе, он немедля бы сбегал из дому при её появлении. Сейчас же он с удовольствием слушал и тёти-Шурины новости из жизни всех соседей подряд, и её лекции по поводу полной бесполезности бульона с сухариками, о страшной разрушительной силе "кофея", и её стенания — к чему-де он законопатил себя в своём кабинете, лучше бы шёл да работал как все, по-человечески. Даже эти нелестные тёти-Шурины суждения о его писательском труде сейчас совсем не раздражали. Всё в эти дни нравилось ему.
И вот однажды, в один из таких блаженных дней безделья, когда сидел он в сквере напротив дома, вдруг что-то сдвинулось в его груди с привычного своего законного места. Сдвинулось, трепыхнулось и замерло. Он подождал чуток, осторожно повернул голову, и что-то в груди тоже повернулось следом. И затаилось. Это что-то внутри было небольшим, холодным и волосатым. Как мышь. Он даже ощутил её цепкие крохотные коготки. Его руки и ноги стали чужими, ватными. Вату же он ощутил и во рту. В глазах разливалась темнота.