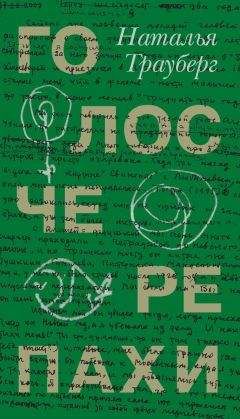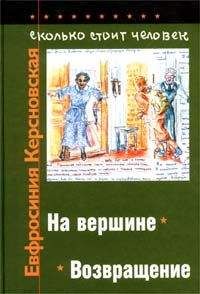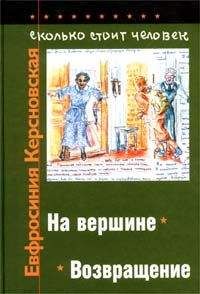Евфросиния Керсновская - Сколько стоит человек. Тетрадь первая: В Бессарабии
С крепким рукопожатием мы расстались. Как далеки мы были от мысли, что в ту минуту, когда этот человек — юрист, представитель закона, символ справедливости — так обнадеживающе жал мою руку и желал успеха, было уже решено — с его ведома — наглядно расправиться с нами, помещиками!
«С тобой я ничего не боюсь!»
Мы вышли из прокуратуры и остановились у крыльца. После полутемной комнаты солнце ослепило нас.
— Как все странно! — сказала мама. — Прокурор, кажется, очень славный, сердечный человек. И все же все это так необычно, что голова кружится! Сколько перемен! За ошибки надо платить… Не мы делали эти ошибки, а наши предки — все это дворянство, помещики царских времен! Они были эгоистичны и неразумны, они не могли, а может быть, и не желали заботиться о народе — дать ему образование и хороших чиновников, а не тех взяточников и картежников, о которых писал Чехов! Сколько было совершено ошибок! Мы с тобой никого никогда не обижали. А папа? Он был идеальный, кристально-чистый человек, наделенный гражданским мужеством. Своим отцом ты можешь только гордиться! И все-таки мы с тобой должны теперь расплачиваться за всех этих Победоносцевых и Сухомлиновых, за всех тех, кто не сумел создать великую Россию и довел страну до великих потрясений! Заметила ли ты: при прежней царской России главой нашей семьи был папа; когда мы переехали в Румынию, папа держался в стороне, а роль главы перешла ко мне — я знала в совершенстве язык, могла бороться с румынскими бюрократами, защищать наши интересы и добилась в этой борьбе победы. Теперь же, при советском строе, главой становишься ты: молодой строй — молодежи открывается дорога! Иди смело по ней! А я с тобой ничего не боюсь и верю, что с тобой я как у Христа за пазухой и что все будет хорошо! Идем же домой. И знаешь что? Сделаем сегодня на обед вареники с малиной! Вишни пока что зеленоваты… Свежая сметана у нас есть, а сахар сейчас купим: полкилограмма на сегодня нам хватит. В мой ридикюль больше и не войдет.
И мы пошли, оживленно разговаривая, домой. Становилось жарко, и мы избрали дорогу чуть более длинную — через лес. Если бы мы прошли обычным путем, через деревню, то мы увидали бы, как выгоняют из дома дядю Борю — младшего брата моего отца… Впрочем, что могли мы сделать? Отвести удар мы не могли. Что легче: видеть, что над тобой занесен топор, или получить удар неожиданно?
Короче говоря, занесенного топора мы не видели.
Вареники с малиной
Из лесу через сад и пустынный двор мы прошли в дом и переоделись. Мама сняла траурное платье и шляпу с вуалью, накинула легкий серенький халатик, надела туфли-шлепанцы и принялась за тесто для вареников; я сбросила сапоги, взяла решето и направилась в сад — нарвать малины.
Какая была крупная, сочная у нас малина!
С полным решетом возвращалась я из сада, пританцовывая и подсвистывая какой-то пичужке, кажется овсянке.
Это были последние в нашей жизни счастливые минуты…
Какая крупная, душистая малина! И вообще, как хороша жизнь, как ярко солнце на чистом, голубом небе! Наверное, мама уже раскатывает тесто. Малину нужно засыпать сахаром…
Кто взял у меня из рук решето с малиной? Не помню… Вот мама стоит в халате, перепачканном мукой; в руках, вымазанных тестом, черная сумочка. Зачем? Что это за люди? Чужие, незнакомые… Все молчат. Или я просто не слышу? Такое чувство, будто меня стукнули по голове. Не больно… Но я ничего не понимаю. И небо уже не голубое.
Как мы прошли с мамой через сад — не помню. Поняла я все, лишь когда мы очутились возле папиной могилы. Теперь я поняла: нас выгнали.
Это не ария Дубровского[11], это обухом по голове!
Ни стона, ни слезы не проронила мама, опустившись на колени и припав лицом к нагретой земле. Я опустилась с нею рядом и поцеловала крест…
Сколько времени прошло? минута? час? Не знаю…
Кругом нас — женщины. Много женщин. С детьми на руках. Вот Анисия со своей новорожденной. Вот Аксиния Ротарь, на руках у нее Василика, тоже мой крестник, — тот самый Василика, который упал в чугун вареной тыквы. Как он мне искусал руки, когда я оказывала ему скорую помощь! Да, врач сказал, это было чудо, что он остался в живых, и то лишь благодаря тому, что я сразу отвезла его в больницу.
А женщины отовсюду бегут, бегут. Что им нужно, всем этим женщинам? Я встаю.
— Идем, мама!.. — И помогаю ей подняться на ноги.
Что тут произошло! Боже мой! Женщины заголосили, срывая с головы платки. Те, у кого на руках были дети, побросали их на папину могилу. Вопли и рыдания баб, писк перепуганных ребятишек… Сквозь эту какофонию прорывались лишь отдельные выкрики:
— Кукона такая добрая — нам всем как родная мать! Последние пришли времена — конец света! Где это видано — из родного дома выгнать! Не замолить такого греха: на нас всех падет проклятие! Не будет добра ни нам, ни детям нашим! Проклятие падет на всех нас! Могилы разверзнутся от такой несправедливости!
Женщины ползали на коленях, хватая маму за край халата:
— Сними с нас проклятие! Не будет нам и детям нашим счастья!
Я тащила маму под руку. Она шла, не оглядываясь, не пролив ни единой слезинки. Возле папиной могилы остались женщины — большинство на коленях, простоволосые, провожающие нас воплями и причитаниями.
У нас с мамой слез не было.
И вдруг мне вспомнилось: несколько дней тому назад мама разбила свою чайную чашку — простенькую, беленькую — и неутешно плакала:
— Из этой чашки я пила, когда рядом со мной был мой Тоня!
И слезы лились рекой. Мама была неутешна. А ведь это была только чашка!
Какой мерой измеряется горе? И что такое слезы?
O tempora, o mores![12]
И вот мы снова в Сороках… Но как все изменилось! Когда мама, бывало, приезжала в Сороки — на своей рессорной бричке, нагруженной с верхом разного рода деревенскими подарками: кому индейка, кому корзина фруктов, крынка сметаны, ком масла или сотня яиц, — все встречали мою маму с распростертыми объятиями, ведь все знали, что, кроме этих мелочей, будет и что-либо покрупнее: воз дров, мешок отборной муки, картошка…
— Почему вас давно не видно?!
— А к нам когда?
Когда же Александра Алексеевна пришла пешком, в сером халатике, шлепанцах на босу ногу и с непокрытой головой, то вдруг оказалось, что места ни у кого нет:
— Ах! К нам из деревни родственники приехали…
— А у нас на постое военные…
Казалось, что горе, нас постигшее, заразно, и все, боясь заразиться, захлопывали перед нашим носом двери. Лишь одна старушка, Эмма Яковлевна Гнанг-Добровольская, предоставила в мамино распоряжение маленькую каморку.