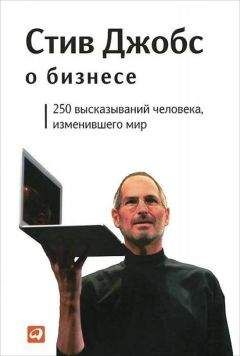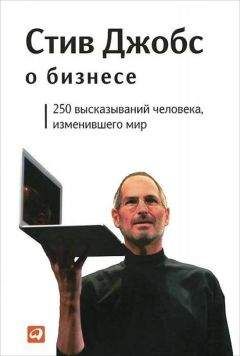Эдуард Экк - От Русско-турецкой до Мировой войны. Воспоминания о службе. 1868–1918
И это ходатайство Родионыча было уважено. Он был вновь зачислен в полк, но выходил в строй со знаменем только в день полкового праздника, на водосвятие 6 января и в дни высочайших парадов.[9] Тоже умер в полку.
Третьим ветераном при полку был наш полковой разносчик Марка, состоявший при полку с 1828 года, помнивший, как в том же году барон Бистром поступил юнкером в полк. (Барон Бистром прослужил в полку непрерывно, с производством в офицеры, до назначения генерал-адъютантом и командовал полком.)
С первого дня вступления полка в лагерь в офицерской столовой в обеденный час появлялся Марка со своим лотком, на котором были ягоды, фрукты, пастила, конфеты и другие сласти.
Когда же полк выходил на учение на военное поле или выступал на маневры, Марка с лотком на голове шел неотлучно при полку и тогда у него преимущественно была провизия: пирожки, холодное мясо, телятина, язык, хлеб, масло, сыр и славившаяся собственного его изготовления водка «листовка», настоянная на листьях черной смородины.
Какие бы ни были тяжелые переходы или маневренные действия, при первом же привале Марка раскрывал свой лоток, и желавшие могли закусывать по своему вкусу.
Последние годы с ним выходили два сына, но при очень больших и тяжелых переходах сыновья иногда не выдерживали и отставали в пути. Один старик всегда был тут как тут.
Особенно ценился он, когда, посланный в штаб отряда за приказанием и задержанный там до глубокой ночи, часто не успев пообедать, вернешься, когда столовая давно уже уложена и все спят. Есть хочется до тошноты и вдруг появляется Марка со словами: «А я вам приберег закуску» и поставит у палатки «листовку», хлеб, мясо или что-нибудь из закусок.
Марка был крестьянином Тверской губернии, давно уже являлся богатым человеком, обладал капиталом в несколько сот тысяч рублей, вел по весне крупную торговлю молодыми деревьями у Семеновского моста. Но он так сжился с полком, что, как только мы выступали, Марка оставлял все прочие дела, шел с полком и оставался с нами до окончания больших маневров.
Был еще один старик, Сапожок, который постоянно вращался около офицеров 1-й Гвардейской дивизии. Жил тем, что выменивал у офицеров старые погоны и галунные портупеи на новые, по расчету за новую пару погон или новую галунную портупею – по 5 пар старых погон или 5 старых галунных портупей.
Сколько лет прожил так Сапожок при полках 1-й Гвардейской дивизии, никто точно не знал, но, например, один из моих дядей, которому в 1870 году было уже за 60 лет, отлично помнил Сапожка и, увидав старика у меня, сразу его узнал и очень ему обрадовался.
6 ноября 1868 года состоялось мое производство в офицеры. Я был произведен в прапорщики тринадцатым, сверх комплекта и лишь на третьем году офицерской службы попал в комплект полка.
Жалованье младшего офицера тогда составляло 312 рублей в год, которые выдавались по третям – 104 рубля в треть. В 1870 году последовало первое увеличение офицерского содержания в форме полугодового оклада, то есть 156 рублей, которые выдавались единовременно перед Пасхой.
6 ноября я был произведен в офицеры, а 15-го была отпразднована серебряная свадьба моих родителей.
Отмечаю здесь этот день, потому что он послужил как бы поворотной точкой в жизни нашей семьи.
Мы жили очень патриархально, никуда не выезжали, кроме дней семейных праздников в семьях дядей и другой родни. В своем внутреннем миру мы были поглощены учением, так как нам предъявлялись очень большие требования.
Вспоминая, как мы целые дни проводили за книгой или за писанием сочинений, кроме полутора-двухчасовой прогулки или катания на коньках, даже летом занимаясь по утрам, странно бывало слышать постоянные сетования на переутомление детей от учения.
Правда, к девяти часам вечера мы все уже были в постели и спали зимой до семи, а летом до шести часов.
Когда же подросли сестры, круг знакомых стал расширяться, установились танцевальные вечера, на которые с осени 1868 года я смог уже приглашать моих полковых товарищей.
Так прожили мы до конца 1868 года, совершенно не замечая того, что творилось вне нашего дома, почти не зная внешнего мира. Даже хроническая болезнь моей матери, продолжавшаяся много лет, стала как бы нормальным явлением.
Никто из близких в это время не умирал.
Среди такого замкнутого круга нашей семейной жизни особенно ярко вспоминается весна 1862 года.
У отца была дача в 14 верстах от Петербурга на Парголовском озере, на которую мы переезжали возможно раньше, обыкновенно в конце апреля, и оставались на ней до октября, купаясь с самого дня переезда по день отъезда в город. В октябре температура воды в озере понижалась до 6 градусов.
В 1862 году ввиду обострившейся болезни матери нас, четырех младших (вторую сестру и трех братьев), отправили на дачу с нашей воспитательницей мадемуазель Лалле, отец же и старшая сестра остались с матерью в городе.
В тот год в Петербурге и во многих других городах возникали ежедневные пожары, охватывавшие целые улицы. Выгорало по несколько десятков, сотен домов, шли постоянные поджоги.
Особенно сильный пожар был в Духов день. Во время ежегодного в этот день гуляния в Летнем саду – смотрин купеческих невест – подожгли гостиный двор, толкучий рынок, а по ту сторону Фонтанки у Чернышова моста лесные склады Громова и весь Жербаков переулок.
От запылавших складов, досок, бревен, дров получился такой каленый жар, что загорелось здание Министерства внутренних дел, по воздуху летали горящие головни (целые балки), толстые папки с делами, на воде горели садки.
Наша квартира находилась в Театральном переулке, окна большой гостиной и нашей классной комнаты выходили на Чернышевскую площадь против самого Министерства внутренних дел. Жар был так силен, что люди все время поливали водою стекла балконной двери и окна.
Мы с Лалле все время стояли на Парголовской горе, откуда город казался охваченным одним огненным кольцом и, наконец, не утерпев, переглянулись со старшим братом, побежали домой, сели верхом и тайком уехали в город, куда прибыли около девяти часов вечера. Родители сделали вид, что сердятся на нас, но мы по тому, как нас поцеловала мать, по лицу отца, по тону его вопросов, зачем приехали, понимали, что они в душе одобряют нас.
К вечеру следующего дня пожар начал затихать, склады дерева, деревянные дома Щербакова переулка, толкучий рынок выгорели дотла. Гостиный двор частью уцелел. Удалось при помощи впервые примененной паровой машины отстоять нижние этажи Министерства. Уцелела и наша квартира.
Когда мы с братом под вечер пошли по направлению к Александрийскому театру, то увидали следующую картину: с Невского на Театральную площадь, мимо здания Публичной библиотеки свернул государь Александр II. Он ехал один, верхом, шагом, окруженный сплошной толпой народа, которая теснилась к нему, крестила его, целовала его руки, ноги, даже лошадь. Государь ехал на пожарище грустный, слезы временами капали из глаз.