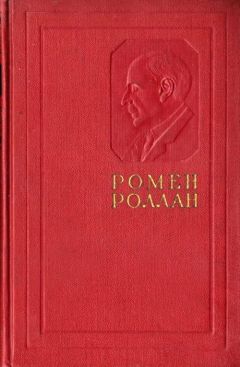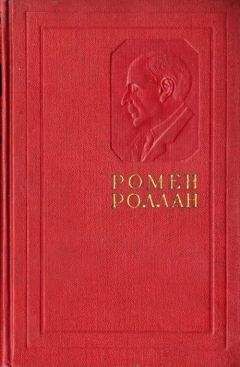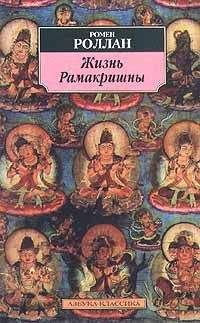Ромен Роллан - Жизнь Толстого
И его охватывает радость.
Толстой в эту пору юности живет, упиваясь своей силой и любовью к жизни. Он как бы объемлет природу, сливается с ней. Она облегчает его душу, утоляет страсти; он приносит ей в дар и горести свои, и радости, и любовь.[46] Но даже это романтическое опьянение никогда не затуманивает ясного взора писателя.
Вся мощь толстовской живописи уже выражена в пейзажах этой пламенной поэмы, и с той же мощью в ней проявился реализм Толстого в изображении человеческих характеров. Противопоставление природы шумному свету, составляющее основу книги, останется на протяжении всей жизни Толстого одной из излюбленных тем его творчества, одним из положений его философского кредо; это противопоставление помогает ему бичевать фальшь светского общества, и уже здесь проскальзывают некоторые горькие ноты, которые с полной силой прозвучат в «Крейцеровой сонате».[47]
Правдивость и реализм Толстого не изменяют ему и при описании персонажей, дорогих его сердцу: простые люди, близкие к природе – красавица-казачка и ее подружки, – показаны без всяких прикрас, со всеми их пороками: эгоизмом, алчностью, привычкой к обману.
Во время пребывания на Кавказе в Толстом открылась глубокая склонность к религиозным исканиям. Нельзя пройти мимо этих первых напряженных искании истины. Толстой сам под секретом поверяет свое душевное состояние юной тетушке Александре Андреевне. В письме от 3 мая 1859 г. он излагает ей свой «символ веры»:[48]
«Ребенком я верил не размышляя, горячо, сантиментально… Потом лет четырнадцати стал думать о жизни, и, так как религия не укладывалась в мои теории, счел за благо разрушить в себе веру… Все было для меня ясно, логично, подразделялось на категории, а для религии совершенно не было места. Потом пришло время, когда уже никаких тайн не осталось для меня в жизни, по сама жизнь начала терять всякий смысл. Тогда я жил на Кавказе и был одинок и несчастлив. Я напряг все силы своего ума, я стал думать так, как только раз в. жизни люди имеют силу думать… Это было и мучительно и сладостно. Никогда – ни прежде, ни после – я не доходил до такой высоты и углубленности мысли, как в эти два года. И все, к чему я пришел тогда, навсегда останется моим убеждением… В эти два года постоянной умственной работы я открыл простую, старую истину, которую я знаю так, как никто ее не знает: я открыл, что есть бессмертие, что есть любовь и что для того; чтобы быть вечно счастливым, надо жить для других. Эти открытия удивили меня сходством с христианской религией, и я вместо того, чтобы самому открывать истины, стал искать их в евангелии. Но нашел мало. Я не нашел ни бога, ни искупителя, ни таинств – ничего; и все же я продолжал искать, вкладывая в поиски всю душу, всю моральную свою силу. Я плакал и мучился, и жаждал только истины… Так я и остался один с своей религией».[49]
В ноябре 1853 г. была объявлена война Турции. Толстой добился назначения в армию, находившуюся в Румынии, потом он перевелся в Крымскую армию и 7 ноября 1854 г. прибыл в Севастополь. Он был преисполнен энтузиазма и патриотических чувств. Он храбро исполнял свой долг, и жизнь его часто подвергалась опасности, в особенности в апреле – мае 1855 г., когда он через два дня на третий нес дежурство на батарее четвертого бастиона.
Жизнь его была полна волнений: месяцами он находился в состоянии непрерывного напряжения, лицом к лицу со смертью, и это несомненно способствовало обострению его религиозного чувства. Он подолгу беседует с богом. В апреле 1855 г. он записывает в дневник одну из своих молитв, в которой воздает богу благодарность за то, что бог хранит его среди опасностей, и молит не оставлять и впредь, чтобы он мог достигнуть «вечной и великой, неведомой, но сознаваемой мной цели бытия!» В этот период «целью бытия» было не искусство, а вера. 5 марта 1855 г. Толстой пишет в дневнике:
«…Разговор о божественном и вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта – основание новой религии… религии Христа, но очищенной от веры и таинственности… Действовать сознательно к соединению людей с религией…»
Это станет его программой в старости.
В то же время, чтобы отвлечься от тяжких картин войны, он снова берется за перо. Какое душевное равновесие требовалось для того, чтобы под градом неприятельских снарядов приняться за третью часть воспоминаний – «Юность»! Правда, книга эта несколько хаотична, но некоторую беспорядочность изложения, а иногда оттенок сухости и отвлеченности анализа с делениями и подразделениями в манере Стендаля,[50] следует, несомненно, отнести за счет обстановки, в которой приходилось писать Толстому. Но истинное восхищение вызывает умение художника спокойно проникать в смутные мечтания юности, охватывать вихрь мыслей, теснящихся в юной голове. Толстой необыкновенно искренен с самим собой. Есть в «Юности» и страницы несравненной поэтической свежести: прекрасное описание весны в городе или рассказ о поездке в монастырь из-за греха, о котором он позабыл рассказать на исповеди. Страстный пантеизм придает некоторым страницам особенную лирическую прелесть, напоминающую кавказские повести. Вот, например, описание летней ночи:
«Тогда все получало для меня другой смысл: и вид старых берез, блестевших с одной стороны на лунном небе своими кудрявыми ветвями, с другой – мрачно застилавших кусты и дорогу своими черными тенями, и спокойный, пышный, равномерно, как звук, возраставший блеск пруда, и лунный блеск капель росы на цветах перед галереей… и звук перепела за прудом… и тихий, чуть слышный скрип двух старых берез друг о друга, и жужжание комара над ухом… и падение зацепившегося за ветку яблока на сухие листья, и прыжки лягушек, которые иногда добирались до ступеней террасы и как-то таинственно блестели на месяце своими зеленоватыми спинками… Но луна все выше, выше, светлее и светлее стояла на небе, пышный блеск пруда, равномерно усиливающийся, как звук, становился яснее и яснее, тени становились чернее и чернее, свет прозрачнее и прозрачнее… и я, ничтожный червяк, уже оскверненный всеми мелкими, бедными людскими страстями, но со всей необъятной могучей силой воображения и любви, – мне все казалось в эти минуты, что как будто природа и луна, и я, мы были одно и то же».[51]
И все же окружающая Толстого действительность не могла не заслонить воспоминаний юности; она властно заявляла о своих правах. «Юность» осталась неоконченной. Штабс-капитан граф Лев Толстой в блиндаже своего бастиона, под гром канонады, наблюдал живых и умирающих людей своей роты и запечатлел их страдания, равно как и свои, в незабываемых севастопольских рассказах.