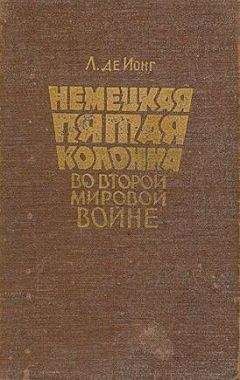Владислав Ходасевич - Дом искусств
Как памятен мне этот двор, квадратный, немного покатый к воротам, сперва мощенный мелким булыжником, потом залитый асфальтом. Памятно мне и его население: вдова Горбунова с двумя сыновьями-гимназистами, акушерка Баркова, многосемейный портной Раич, страдающий ревматизмом, зимой и летом ходивший в валенках, Аксинья, торговка яблоками, вечно пьяная старуха, тощая и презлющая, готовая «осрамить» кого хочешь; в пылу перебранки сражает она противника тем классическим аргументом, каким баба Ивана Никифоровича поразила Ивана Ивановича: повернувшись спиной, подымет юбки32. Порою проходят мастерицы модистки Шипулиной – гордячки ужасные; в синих коленкоровых платьях и белых пелеринках, с ножницами на поясе, пробегают девочки из модной мастерской Екатерины Алексеевны Ильиной; среди них – Анюта, молочная сестра моя: она за что-то наказана и осуждена всю неделю носить бумажный колпак. Иногда я вывожу из сарая, точно коня, свой велосипед и катаюсь по двору. Иногда мы играем в чижики с маленьким сыном Раича либо с губастым Степкой, сыном шипулинской кухарки.
Интересно бывает следить из окна за всем, что делается на дворе. На подоконник в няниной комнате я поставил скамеечку для ног и сижу на ней. Няня гладит белье. Весна. Окно раскрыто, и я сижу в нем, как в ложе. Подо мною – покатая железная крыша – навес над лестницей в дворницкую, которая находится в подвале. На крыше стоят горшки из-под гиацинтов: от Пасхи до Пасхи мама хранит их луковицы. Мы сами еще не скоро поедем на дачу, а вот какие-то счастливцы уже отправляются: ломовые громоздят мебель на воз: наверное, все переломают. А вот вынесли клетку с попугаем. Я вытягиваю голову, привстаю – и вдруг двор, который был подо мной, стремительно подымается вверх, все перекувыркивается вверх тормашками, потом что-то ударяет меня по голове, на затылок мне сыплется земля, а я сам, глядя в синее небо, сползаю по крыше вниз, ногами вперед. Рядом со мной с грохотом катится цветочный горшок. Он исчезает за краем крыши, а я утыкаюсь каблуком в желоб и останавливаюсь. Потом нянин крик и занесенная надо мной огромная нянина нога в белом чулке с красной тесемкой под коленом. Меня хватают на руки, и через то же окно мы возвращаемся в комнату. Дома никого нет. Няня меня одевает, и мы на извозчике отправляемся прямо к Иверской. Няня ставит свечу, и долго молится, и прикладывается ко всем иконам, и меня заставляет прикладываться. Не зацепись я за желоб, пролетел бы целый этаж и мог сильно разбиться, если не насмерть. Дома няня рассказывает все маме. Мама плачет и бранит то ее, то меня. Крик. Все плачут, все меня обнимают. Потом меня ставят в угол.
Меня наказали за то, что я был неосторожен, и для того, чтобы я был вперед осторожнее. Но такая логика детскому уму недоступна либо еще хуже – представляется ему лживою казуистикой. По-моему, выходило просто, что меня наказали за то, что я упал из окна. Иными словами – вместо того, чтобы меня жалеть, утешать и даже вознаграждать за Бог весть откуда свалившееся несчастье, – мне причиняют новое, незаслуженное горе. Такие случаи были часты в моем детстве, как, вероятно, в детстве каждого из нас. Я их переживал мучительно. Мне казалось не то ужасно, что именно со мною несправедливы, но что вообще – как можно жить в мире, где делается такое? От этих мыслей я как бы внутренне задыхался, захлебывался. Надо еще прибавить, что я был необычайно серьезен (актер Сашин, известный в свое время комик, прозвал меня маленьким старичком) – над серьезностью этой подтрунивали, и тогда я казался себе предметом общего издевательства. Однажды на даче кухарка Агафья резала цыплят. Отрезав цыпленку голову, она выпускала его из рук; истекая кровью и шатаясь, как пьяный, безголовый цыпленок бежал несколько шагов по траве и падал. Какие-то бабы смеялись. Случилось после того, что сестра меня чем-то обидела – я заревел. Она надо мной подшутила. Тогда, свету не взвидев, я высказал все, что в душе скопилось:
– Да, вот – зарезали петуха и над ним смеетесь!
Как многие дети, я часто задумывался, не подкидыш ли я, и преисполнялся к себе жгучею жалостью. Порою после какой-нибудь неприятности я находил наслаждение в том, что изо всех сил бередил эту рану. Я запирался в самом отдаленном и отнюдь не для того предназначенном уголке квартиры и там, в тесноте, при свете огарка, предавался страшным мечтам. Мне виделись душераздирающие семейные сцены, навеянные чтением Диккенса и Шпильгагена33. Я в них играл роль жертвы, столь несчастной и столь благородной, как только можно себе представить. При этом я думал о себе в третьем лице: «он». Каждый раз все кончалось тем, что «он», произнеся самую сердцещипательную и самую самоотверженную речь в мире, всех примирив, все устроив, всех сделав счастливыми, падал жертвою перенесенных страданий: «Сказав это, он приложил руку к сердцу, зашатался и упал мертвым». Далее воображал я уже надгробные о себе рыдания – и сам начинал плакать. То были, однако, сладкие слезы, очистительные, как все, проливаемые над вымыслом. Свое странное убежище я покидал умиротворенный и размягченный сердечно, в некой духовной приподнятости, и давал себе слово впредь быть именно таким хорошим и великодушным, каким только что себя воображал.
Приступы сих трагических переживаний особенно часты были, когда мне было лет восемь и я уже учился в школе. Постепенно они начали себе находить выражение и отчасти исход в стихах, слагавшихся, впрочем, под влиянием литературных образцов особого рода. Но тут я хочу вернуться немного назад, к самому возникновению писательских моих опытов.
Мне было лет шесть, когда сочинил я первое двустишие, выражавшее самую сущность тогдашних моих чувств:
Кого я больше всех люблю?
Ведь всякий знает – Женичку.
Не следует думать, что это двустишие вовсе лишено рифмы. В основу рифмоида «люблю – Женичку» положено очень верное чувство рифмы и ритма. В книжной поэзии я помню только один случай такой рифмовки дактилического окончания с мужским: «антраша» и «профессорша» у Андрея Белого в «Первом свидании». Она, однако же, часто встречается в народных песнях, от самых старых до современных частушек включительно. Гораздо труднее мне было бы защитить другое стихотворение, сохранившееся в моей памяти. Оно было навеяно вербным торгом, который в то время устраивался на Театральной площади и лишь несколько позже был перенесен на Красную:
Весна! выставляется первая рама —
И в комнату шум ворвался,
И благовест ближнего храма,
И говор народа, и стук колеса.
На площади тесно ужасно,
И много шаров продают,
И ездиют мимо жандармы,
И вербы домой все несут.
Недостатки второй строфы очевидны. Первую же, как уже заметил читатель, я взял у Майкова – не потому, что хотел украсть, а потому, что мне казалось вполне естественным воспользоваться готовым отрывком, как нельзя лучше выражающим именно мои впечатления. Майковское четверостишие было мной пережито, как мое собственное34. В этом нет ничего удивительного. Одна современная поэтесса по той же самой причине первым своим стихотворением считает «Казачью колыбельную песню» Лермонтова.