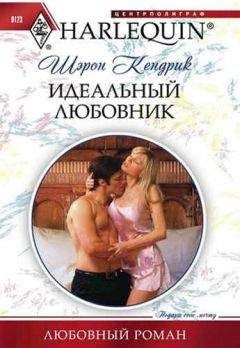Людмила Гурченко - Люся, стоп!
А тут и рядом, в доме, появились перестроечные встряски. Начались прикидки. Куда бы податься. А что бы такое придумать? Поначалу я не придавала этому особого значения, только улыбалась. Отцу Кости всегда хотелось что-то свое открыть, иметь свое дело. Костя тоже и сценарий писал, и домашними съемками увлекался. Чего-то еще и еще хотел. Слово «фарц» я надолго изжила из употребления. Мы жили в добре и в согласии, без конфликтов. Все завидовали, считали нас примерной парой. Один остроумный артист «возмущался»: «Слушайте, как ни увижу, они все время вместе. Нет, ребята, так не бывает. Ей-богу, здесь есть какая-то загадка». Интересная реплика. Я тогда не придавала этому значения.
Все заметались, разметались. Наш барабанщик уехал в Израиль. Гитарист в Англию. Друг Кости — в Америку. Врачи шли в фирмы. Музыканты в продавцы. Все что-то продают, вывозят, привозят. Офисы, обилие ларьков. Старушки на Тверской выстроились в ряд и вынесли все, что было дома, — наволочки, тапочки, вязаные шапочки, лифчики, лампочки.
А у меня — никакого выбора. В эмиграцию? Даже мысль не залетала. Ничего не умею. Не умею продать. Умею только купить. В бизнесе ничего не понимаю. Руководить не умею. Нет у меня ни хладнокровия, ни умения вычислять ходы наперед. И ничем, ну абсолютно ничем, кроме актерства и всего, что ему сопутствует, не интересуюсь.
Когда в перерыве между фильмами были концерты, и я впервые вышла из самолета где-то далеко-далеко от Москвы, а потом долго ехала по заснеженным просторам, покрытым угольной пылью, я так явно, всем своим существом, ощутила, — кончился бурный, поисковый период моей жизни. Взрывов больше не будет. Во всяком случае, в ближайшее время. Это уж точно. От серого, однообразного пейзажа повеяло временами долгой безработицы, бесконечными переездами и перелетами, выступлениями в шахтах и на заводах, в столовых и тюрьмах. Да вообще где придется.
Добрый вечер! И стоп. Для господ еще не созрела. А «товарищи»… В зале смешок. Потому просто — «Добрый вечер!».
Я снималась в первых фильмах, в которые вкладывали деньги люди далекие от кино. А кто их будет смотреть? В каких регионах они будут куплены? Четких ответов на все эти вопросы еще не было.
В неразберихе, суете, непонимании — что же происходит и куда все идет, — я ухитрилась сыграть и спеть много мелких и глупых ролей и песен. В то же время обязанность зарабатывать толкала на это. А что делать? Ведь перестройка оставила всех нас, «кинозвезд» — всех, без исключения, — нищими людьми. Каждый выкручивался и не сдавался по-своему. А тут за концерты стали платить вполне приличные деньги. Что же так поздно? Поднатужившись и объездив с концертами Брянск, Орел, Курск и области, я осуществила свое давнее желание — купила себе норковую шубу. Поздно, но осуществила. Ведь их вообще нигде не было. Это теперь каждая третья девушка в Москве в норке. Казалось бы, приличный гонорар, помимо житейских радостей, дает возможность спокойно работать, не размениваться на мелочи, возможность выбирать. Нет. Я разменивалась и разменивалась. И не могла остановиться. А вдруг завтра будет опять как вчера?
Боялась. Страшно было что-то пропустить, отстать, быть опять ненужной. Как хорошо, думала, поэтам, художникам. Они могут уединиться, творить для себя, находя отголоски в душах истинных своих поклонников. А тут как творить? В уединении? Кино — коллектив. Театр — постоянный коллектив. Каждый день бездействия — паника! А возраст? А лицо? Ведь лицо — моя зарплата. А что делать с паспортными данными? А что делать с ролями, которые неумолимо уходят и уходят?
Паника, паника, суета, раздрызг. Где взять силы, чтобы улыбаться, когда внутри одни грустные вопросы? На что равняться? Что есть, чего не знаю и не понимаю? Ого, как здорово, как смело: «ЧП», «Маленькая Вера». Жестокий реализм. Но это же новое о вчерашнем. А дальше? Как смотреть на нашу жизнь? Да, так жить нельзя. Боже мой, ну скажите, как жить? Как неудобно, как стыдно, что так живем. И перед собой стыдно. И перед другими народами и государствами.
Я была в Берлине на фестивале. На этом фестивале просматривали картины для того, чтобы их рекомендовать и даже поддерживать финансово для проката в других странах. Я и не знала о существовании таких фестивалей. Сидела в жюри и, в общем, быстро сообразила, что и к чему. Ко мне относились с вниманием и интересом. С некоторыми членами жюри я была знакома по другим фестивалям. А на одном из банкетов выпили за мою премию на Всемирном кинофестивале в Маниле. Я ее получила за роль в «Любимой женщине механика Гаврилова». На то время я давно не слышала о себе ничего доброго. И это было приятно. А ведь дома, на Родине, с премией меня никто не поздравил. Но это было давно. Теперь же другое время. Теперь, если заработаю, наверное, поздравят. Наверное… От нашей страны, от СССР, показали фильм Станислава Говорухина «Так жить нельзя». Наутро будет голосование, разговоры, дебаты, смех и шутки. О, как изменилось все наутро. С первым шагом в зал меня аж озноб охватил. Я почувствовала такую настороженность — она просто дыбом стояла в воздухе. Как будто в это светлое помещение с золочеными креслами вошел человек вдребезги больной и сейчас всех перезаразит. Каких же внутренних драк мне стоило не побледнеть, не увидеть, не заметить, не потерять вчерашней естественности. Меня рассматривали в увеличительное стекло. Да, я сейчас единственный живой представитель той жизни, которой жить нельзя. Что ты притворяешься нормальной? Ведь вы все больные, алкоголики, насквозь прогнили. И от вас идет зловоние. А мои любимые духи еще больше в этом контрасте были приторны и удушливы.
Об этом я никому не рассказывала, но то была моя большая личная победа. Даже не через несколько дней, а уже на следующий все вошло в норму. Через самоиронию, шутку, анекдот, через разговоры о нашем новом времени, о демократии, о естественных взрывах на ее первых порах. Кто-то даже сказал, что это смело — так себя вывернуть наизнанку. Это было сказано для меня, чтобы загладить те, первые ледяные часы. Но я поняла, что это наши проблемы. Проблемы для внутреннего пользования. Они все там так далеко улетели в своей сытой жизни. Им наша вопиющая и внезапно открывшаяся всеобщая нищета отвратительна. Такая сильная страна оказалась трухой. Ужас!
Что сказать? Что советский мужчина, получающий копейки за свой труд, превратился в ничто? Что пьяницей его сделали десятилетия такой копеечной жизни? Что даже в песне — «Не могу я тебе в день рождения дорогие подарки дарить, но зато в эти ночи весенние я могу о любви говорить». Вот и все, на что он способен, пока молодой. А потом… С авоськой, в очереди за бутылкой. Вот советского мужчины и не стало.