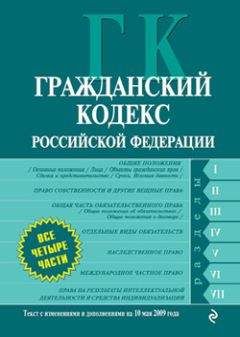Юрий Софиев - Синий дым
А через три года Бунина не стало. Умер он 8 ноября, в 3 часа ночи, в 1953 году. Отпевание шло в русском соборе на улице Дарю. У ограды ждал похоронный фургон, чтобы отвезти Ивана Алексеевича на русское кладбище Сент-Женевьев де Буа, в 25 километрах на юг от Парижа. Гроб несли с высокой каменной соборной лестницы через церковный двор до фургона на своих плечах поэты и писатели, и те из них, которые должны были вернуться на Родину, и те, что остались эмигрантами. Я чувствовал плечом, насколько тяжел гроб. Говорили, что в дубовый гроб вложен цинковый, так как Бунин мечтал и надеялся, что его прах, рано или поздно, будет перенесен в родную землю.
Могила Бунина — серый тяжелый каменный крест необычной формы, в начале аллеи, наискось от могилы моего отца. Так что, приезжая к отцу, я, естественно, шел поклониться и Ивану Алексеевичу. Он тогда лежал один, Вера Николаевна умерла уже после моего возвращения на Родину.
РЕЗИСТАНС — СОПРОТИВЛЕНИЕ
Жить в эмиграции литературным трудом, как я уже говорил, да еще будучи молодым поэтом было совершенно невозможно. Ничтожен гонорар в эмигрантской прессе, да в нее еще нужно было попасть. Смехотворные также тиражи книг на русском языке. «Маститые старики», помимо скромнейшего гонорара, жили на всевозможные пособия от различных общественных организаций, а молодым приходилось работать. Кое-кто устраивался в торговых предприятиях мелкими служащими, но большинство во Франции занималось физическим трудом. Люди трудились на заводах, фабриках, за баранкой такси (в Париже было до 4500 шоферов такси), малярами, чистильщиками парижских витрин. В тридцатых годах я одно время тоже работал на подобном предприятии по чистке витрин, с поэтом Алексеем Эйснером. В 36-м году, в эпоху Народного Фронта, мы с ним участвовали даже в рабочих забастовках, посещали профсоюзные собрания и ходили на митинги.
Постоянный контакт с французскими рабочими, простая и искренняя дружба с ними, совместное участие в забастовках за увеличение зарплаты, улучшение жизненных условий, все эти обстоятельства начали у некоторых из нас пробуждать новые мысли, изменять нашу психологию.
Фактически мы стали французскими рабочими, и это заставляло нас видеть мир в совсем ином, новом аспекте. Однако этот психологический процесс происходил гораздо сложнее, чем у них, так как мы — я говорю о ближайших моих литературных товарищах — всегда оставались русскими интеллигентами, людьми русской культуры, уже в 20—30-х годах настроенными резко антифашистски.
Все мы болели, я говорю о моем поколении, хронической болезнью ностальгии. Мы всеми силами старались не утратить духовных связей с Россией. И эти, казалось бы, столь далекие друг от друга миры, несомненно, имели взаимосвязь, друг на друга влияли, влияли на выработку нашего мировоззрения и, поскольку мы принадлежали к творческой литературной среде, определяли и наше творчество, все больше приближая нас к пониманию новой России.
Вот нищий ждет с протянутой рукой,
И нам при нем в довольстве жить нельзя!
И век наш виснет тучей грозовой,
Борясь, страдая, гневаясь, грозя…
…И за отцовской верностью и честью
Не ведали, что нищая страна
Уже выходит к славе с новой вестью,
Великие возносит имена.
И вот, когда за капитанской рубкой
Встал жесткий мир борьбы, труда, беды,
То в этой жизни прежний смысл вражды
Уж кажется сомнительным, и хрупким…
И в крепком сердце верность сохраняя
На всех земных безрадостных дорогах,
Библейский блудный сын, сойдя с коня,
Склоняется у отчего порога.
Эти стихи писаны мною в предвоенные годы в Париже. Но даже в таком мракобесном центре русской эмиграции, как югославский Белград, нарождались приблизительно такие же настроения. У многих университетских друзей, поэтов Алексея Дуракова и Ильи Голенищева-Кутузова, не было трудового рабочего опыта, оба они, осевшие в Югославии, после университета пошли по педагогическому пути. Илья, в свое время направленный из Белграда в Париж для защиты докторской диссертации в Сорбонне, вернувшись в Югославию доктором филологических наук, был избран приват-доцентом университета и преподавал историю французского языка и литературы. Алексей же работал преподавателем в сербской гимназии. Стимулом к упомянутым настроениям было чувство любви к далекой Родине.
В 1938 году в Белграде А. Дураков написал стихи, которые были опубликованы в советском журнале «Родина» (№ 2 за 1969 г.) Это было издание Советского Комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом и выходило в Москве.
В 1944 году поэт пал смертью храбрых в бою с гитлеровцами за югославским партизанским пулеметом, расстреляв до последнего патрона свои пулеметные ленты.
В Указе Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями СССР группы соотечественников, проживавших во время Великой Отечественной войны за границей и активно боровшихся против гитлеровской Германии, значится и А. Дураков. Он награжден посмертно орденом Отечественной войны 2-й степени (18 ноября 1965 г.).
В том же журнале «Родина» напечатана статья Марии Баратовой «Поэзия света», посвященная творчеству А. Дуракова. Между прочим, автор пишет: «Духовная связь с русской литературой никогда не прерывалась в творчестве Дуракова. Почти всю жизнь прожив в чужой культурной среде, поэт не растворился в ней. Тщетно искали бы мы в стихах Дуракова западные влияния. Его поэзия — ясной простотой языка, образным строем, певучестью — всеми своими корнями уходит в русскую почву. Это неизменно чувствуется как в ранних, так и в поздних стихах Дуракова. Сердце поэта никогда не покидало отчего дома».
Со скорбью и горечью склоняю я голову перед памятью друга моего, посвятившего свою жизнь русскому слову и отдавшего ее за свободу далекой своей Родины.
До войны во французском издательстве вышла книга русских сказок «Сказки избы» с прекрасными цветными иллюстрациями И.Я. Билибина. Вот этому замечательному русскому сказочнику действительно было трудно, очень трудно работать вне родины. Как-то, в тридцатых годах, возвращались мы втроем — мой университетский учитель, профессор Е.А. Аничков, Билибин и я — с какого-то русского сборища. Шли пешком по ночному Парижу. Говорили о красоте этого замечательного города, а потом Иван Яковлевич сказал:
— А вот не могу я работать здесь, в Европе всюду коммерция, ее требования предъявляются и художнику, требования, никакого отношения к искусству не имеющие. А я всю жизнь был «попиком», бескорыстным «священнослужителем искусства».