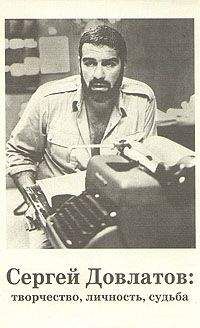Митрополит Евлогий Георгиевский - Путь моей жизни. Воспоминания Митрополита Евлогия(Георгиевского), изложенные по его рассказам Т.Манухиной
В Государственной думе в ту весну я встретился впервые и с профессором политической экономии Сергеем Николаевичем Булгаковым (впоследствии протоиерей Сергий — инспектор Парижского Богословского Института). Он уже тогда приближался к Церкви и выступил с предложением организовать особую комиссию по делам Православной Церкви параллельно вероисповедной комиссии. Я взял слово и направился к трибуне, с которой он спускался. Мы встретились… "Неужели вы хотите возражать?" — удивился он. "Нет, дополнить: чтобы членами ее могли быть только православные", — сказал я.
Помню появление в Думе о. Григория Петрова. Он находился под епитимьей в Черменецком монастыре (Петербургской губернии), куда паломничали его многочисленные поклонники и поклонницы: светские дамы, студенты, курсистки… Обер-Прокурора засыпали запросами, просьбами о его освобождении, и, под давлением влиятельного заступничества, его из монастыря освободили. Первое его появление в зале заседаний было обставлено с некоторым триумфом. Распахнулись двери, все депутаты, как один человек, встали — и разразились громом рукоплесканий… О.Григорий Петров театрально раскланялся. Потом мы с ним познакомились. В Думе он почти не выступал.
О.Г.Петров был человек позы, внешнего эффекта, эмоций, но подлинной внутренней религиозности в нем было мало. Не лишенный дара воздействия на толпу, он умел говорить с интеллигенцией и собирал на свои лекции весь Петербург. Внешнее красноречие, деланный, искусственный пафос и демагогический тон его докладов не претили неразборчивому вкусу аудитории — наоборот, они-то и создали ему популярность.
Уже после роспуска Думы мне случилось встретиться с ним в приемной митрополита Антония. Он мне сказал, что принес прошение о снятии сана. Мне было его жаль, и я советовал не делать этого. Впоследствии он стал сотрудником "Русского Слова", а во время войны был военным корреспондентом. Гибель сына на фронте его очень изменила. Он умер в Париже. Его тело сожгли в крематориуме.
Революционно-агрессивная настроенность Думы передавалась петербургскому населению (а дальше и всей России) и повсюду раздувала пламя политических страстей. 16 марта я чуть было не стал одной из жертв этого революционного психоза: меня чуть не убили социал-демократы.
Однажды вечером пришел ко мне студент Петербургской Духовной Академии, член студенческого кружка, который вел просветительную работу на фабриках, и просил меня отслужить молебен и провести беседу на ниточной фабрике Макселя. Он обещал за мной заехать и отвезти за Невскую заставу. Я согласился.
Фабричные районы Петербурга были несколько заброшены и лишены деятельной религиозно-просветительной о них заботы. Ни церквей, ни духовно-просветительных организаций; очень мало было церковного попечения… Массы, пребывая в темноте и озлоблении, дичали и представляли благодарный материал для безудержной революционной пропаганды. Лишь небольшая группа студентов Духовной Академии, главным образом священников и монахов, вела работу по религиозному просвещению.
16 марта студент заехал за мной на извозчике. Я взял с собой Евангелие.
В районе фабрики Макселя церкви не было — только молитвенный дом, но с иконостасом и даже с престолом. Почему-то епархиальное начальство с освящением медлило. Подъезжаем к зданию — оно полно народу и на улице тоже черным-черно… Я обрадовался. "Какая, — думаю, — жажда Божьего слова…" А спутник мой смущенно молчит. С трудом пробились сквозь толпу в дом, а там стоит гул… Я снял шубу, надел мантию. Мне навстречу вышел студент-священник с крестом.
— Мы встречаем вас не только как епископа, но и как народного избранника… — взволнованно начал он, а у самого, смотрю, руки дрожат.
И вдруг слышу — из толпы реплика: "И как хулигана!"
Я приложился ко кресту, вступил на солею, взял посох и обратился к толпе: "Мне странно… За что вы так враждебно встречаете? Я приехал помолиться, испросить Божьего благословения на ваш труд…" Я не докончил — мою речь покрыли крики: "Громче!.. громче!.. иди на середину!.. мы с тобой поговорим!.." Крики перешли в гвалт, в рев… Смотрю, над головами поднятые кулаки, револьвер… Слышу звон разбитых стекол… Весь зал — сплошная ревущая толпа. Бабы прячутся под мою мантию, цепляются за меня… "Не ходи!.. не ходи… — убьют!" Я стою, опершись на посох, как вкопанный. Со всех сторон сыплются ругательства. "Руки в крови!!.. Палачи народные!.. Кровопийцы!!.." Господь дал мне разуму выдержать враждебный натиск. Неистовство толпы продолжалось минут десять-пятнадцать, потом понемногу голоса стали стихать (по-видимому, пронесся слух, что в район прискакала полиция). Когда утихли, я снова спросил:
— За что вы мне устроили враждебную демонстрацию? Я приехал с Евангелием, чтобы прийти вам на помощь, духовно поддержать вас.
— Ты бы похлопотал за наших детей, которые сидят в тюрьме! — выкрикнул кто-то.
— Я рад сделать, что могу, для облегчения их участи.
Не успел я это сказать — посыпались прошения. Я сказал, что рассмотрю их дома, а теперь предлагаю помолиться — хочу отслужить молебен.
Этим моя "беседа" и закончилась. Понемногу рабочие стали расходиться. Реплики из толпы слышались уже иные: "Ну уж ты прости…", "Мы не хотели…" и т. д. Я вышел спокойно и уехал в санях в сопровождении конных стражников. Мой спутник, студент, был всем происшедшим крайне удручен: "Простите, ради Бога, что я вас в такую беду втравил… Что вы пережили!" Он попросил дать ему что-нибудь на память, и я отдал ему бывшее у меня в руках Евангелие [32].
На другое утро я все рассказал митрополиту Антонию. Он выразил мне сердечное сочувствие не только от себя, но и от лица всех бывших тогда в Петербурге архиереев, которых пригласил на завтрак по случаю хиротонии Черногорского епископа Кирилла. Скоро в одной из левых газет появилась статья "Евлогий попался". Оказалось, что враждебная манифестация была организована по распоряжению из Думы. Изошло оно от депутатов социал-демократической фракции, когда они узнали, что я поеду на собрание рабочих.
Вскоре после этого события мне пришлось пережить большое горе…
Как-то раз вечером у меня были гости: мать София, игуменья Вировского монастыря, и один преподаватель Петербургской семинарии. Мы пили чай. И вдруг мне подают телеграмму: "Отец скончался". Весть о кончине отца меня глубоко потрясла — я его очень любил. Я бросился к митрополиту, сообщил ему горестное известие и с первым поездом выехал на похороны в Епифань.
Дорогой мне пришлось остановиться в Туле, дабы у местного архиерея испросить разрешение служить в его епархии. Епископом Тульским был тогда преосвященный Лаврентий, бывший ректор Московской Духовной Академии — типичный питомец Киевской Академии, хороший старичок, любитель благодушной шутки, приятный, мягкий в обхождении. Помню, в то время, когда я у него сидел, к нему пришел ректор местной семинарии о. архимандрит Алексей Симанский [33]. Он окончил Катковский лицей, был в свое время лицеистом-белоподкладочником и в монашестве — надушенный, в шелковой, шелестящей рясе — не утерял светской элегантности. Епископ Лаврентий слегка над ним подшучивал. "А… отец ректор, — приветствовал он его, — ну, как у вас в семинарии — все ли благополучно?" — "Так точно, все хорошо, функционируем…" — "Вот видите, владыка, раньше у нас учились, а теперь "функционируют", — тонко подчеркнув неуместность иностранного слова, обратился ко мне преосвященный Лаврентий.