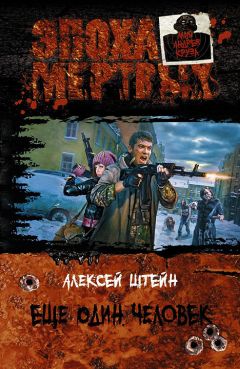Никита Гиляров-Платонов - Из пережитого. Том 1
Возвращаюсь к своему положению в училище. Хотя я умеренно пользовался предоставленными мне верховными правами, но они произвели во мне нравственный переворот: я стал деспотом и тираном, деспотом и тираном бескорыстным; находил наслаждение в чужих слезах, любил измываться, наводить страх и тешиться произведенным впечатлением. Гадкое это чувство! В сердчишке двенадцатилетнего происходило приблизительно, мне кажется, то же, что в сердце грозного Иоанна, когда тот потешался казнями. «Павлов, поди сюда!» — повелеваю я малому, на 5 или 6 лет старше меня, дюжему, рослому. «Наклоняй голову!» Он наклоняет. Я его бью, таскаю за волосы и отпускаю. Бью и таскаю ни за что, а так, из удовольствия, что вот такого большого, который может меня придавить одною рукой, известного кулачного бойца, не безызвестного мещанам по Пыточной улице, бью безнаказанно, издеваюсь над ним, как хочу, и он терпит молча и ни слова не смеет сказать. «Василевский, сюда!» Вызываемый подходит. «Становись на колени!» Становится. Я сажусь верхом на шею, велю ему встать и мчать меня. Он мчит послушно, и я его хлыщу лозой. Он безропотно трудится до пота. «По местам! Молчать! Чтобы муху было слышно!» Садится класс в безмолвии. «Ский на в, на кулачки!» И образуются две стенки и бьются в мое удовольствие. Я должен объяснить, что такое ский на в (выговаривалось «на веди-ер-в»). В древние времена классы не отапливались или отапливались плохо. Чтобы согреться, семинаристы устраивали бои, причем на одну сторону становились имеющие фамилию на ский — Преображенский, Воскресенский, Знаменский, на другую — Смирновы, Соколовы, Орловы, к ним присоединялись Малинины и Любвины.
За выстраданный первый год душа попросила отместки. Презрение к неразвитым товарищам, воспитанное вторым годом, подсказало форму не корысти, не честолюбия, а охотничьего чувства. Честолюбие, если б и было, было удовлетворено свыше меры; единогласно я признан стоящим на несколько голов выше всех; взяточничеством и вообще несправедливыми придирками я гнушался. Но жажду потехи над бессильными преодолеть не мог. Я отводил себе душу.
К счастию, потехи мои прекратились скоро: они не продолжались и года. Мне сделалось гадко, стало стыдно пред собою, и со мною совершился новый перелом: я стал заботливою матерью класса. Я переслушивал уроки, но с тем, чтоб объяснить, когда знаю, что ученик порядочный, и с дарованием и с добрым сердцем, но не понимает фразы, кажущейся трудною. Одному из лучших учеников я предложил составлять записки по ректорским толкованиям из географии, трудился с ним вместе, наставлял его и предлагал желающим пользоваться нашими трудами. На место командирского озорничества вступила мягкость, услужливость, сострадательность. Перелом был так силен, что отразился на всю жизнь. Я потерял способность приказывать и всякое уменье повелевать, которое так ко мне и не возвратилось, в какие положения ни был я поставляем потом судьбой, в лета не только юношеские, но и зрелые. Характер надломился в обратную сторону, и когда мне приходит вопрос, отчего я не способен быть администратором, точнее командиром, требующим беспрекословного исполнения; отчего я лишен настойчивости даже там, где дело этого требует; отчего мне даже противны беспрекословные клевреты и в исполнителе я жажду разумения и сочувствия к делу; почему охотно, даже далее надлежащего терплю возражения, даже ищу их и требую; я обращаюсь за объяснением к давно минувшим детским годам, и в несправедливых гонениях и побоях, которым подвергался, нахожу первую причину, рядом совершенно последовательных перемен воспитавшую во мне этот избыток пассивности.
Объяснительные к урокам записки составляемы были под моим руководством, как сказал я выше, одним из лучших учеников (он стоял в списке третьим). И опять не могу вспомнить без жалости. Трудолюбивый, честный, не без дарований, не без любознательности, но какая неразвитость, точнее сказать — какое неуменье учебников приноровиться к детским понятиям! Я помню фразу географии на первой странице, чуть ли не пятая строка: «Земля наша, как планета, занимает место в системе Солнечной». Помню, я пространно должен был бедному Румянцеву толковать почти каждое слово этого предложения, с которым было у него то же, что у меня с каким-то замечанием о причастиях в грамматике Востокова. «Планета», «занимает место», «система»: каждое из этих выражений порознь было тарабарскою грамотой. И сколько, без сомнения, такой тарабарщины во всех учебниках! Несмотря на свое чрезвычайное, не по летам развитие, не понимал и я одного выражения в Катехизисе. При объяснении слова Библия там сказано, что это слово означает книги и что Священное Писание названо так потому, что «преимущественно пред всеми книгами заслуживает сего наименования». Невоструев нам и объяснял, и в то время как объяснял он, смысл темного выражения мне становился понятен. Но замолк толкователь, и я снова не понимаю, не умею себе объяснить, что такое «преимущественно пред всеми книгами заслуживает сего наименования».
Нет нужды пояснять, что я опять не учился в классе за эти два года, но уже в обратном смысле, нежели в первый курс. Там я не хотел учиться, здесь учиться нечему было. Я продолжал свое домашнее чтение, но рвался, между прочим, не только вобрать в себя, но и изнести из себя что-нибудь. Бывавшие в руках латинские и греческие книги прочтены были мною; перевести их не приходило в голову, потому вероятно, что то были книги, числившиеся учебниками. Смутно бродила мысль о различии между учебником и литературным произведением. Но попала в руки латинская книга, не принадлежавшая ни к учебникам, ни к классической литературе вообще. Случайно узрел я ее у одного ученика, и она мне понравилась сначала своим переплетом: он был пергаменный, чистый, гладкий, ласкал руку. На вопрос: «что это?» владелец отвечал, что это «иностранная, должно быть немецкая». Вероятно, я променял ее на что-нибудь; она перешла ко мне. В ней оказались сочинения Павла Иовия, наполовину напечатанные готическим шрифтом. Сочинение «О римских рыбах» и «Летопись Англии» не возбудили интереса; но нашлось «De rebus Moschoviae» или «De Moschovia», современное описание России XVI века, составленное на основании показаний Димитрия Герасимова толмача. Я не только внимательно прочел это сказание, но решил его передать на русский язык, сшил тетрадку и перевел. Жалею, что не уцелело это первое мое литературное произведение. Помню, я старался перевести тщательно, перечитывал несколько раз перевод, изменял выражения, которые находил недостаточно точными и изящными. Я не знал тогда, что сочинение это известно историкам; полагал, что я сделал открытие. Об издании в свет своего перевода, разумеется, не мечтал, да никому и не говорил о нем; но меня утешала мысль, что я не только учусь, но и делаю дело настоящее, серьезное, свойственное людям не только почтенного возраста, но почтенным по себе, ученым.