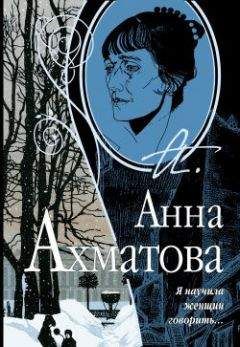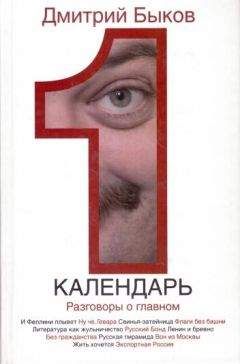Дмитрий Бобышев - Автопортрет в лицах. Человекотекст. Книга 2
– Если хочешь, я никому не покажу твоего письма. Обещаю!
– Нет, нет, ты сможешь его показывать, кому хочешь. Я ведь имею в виду перлюстрацию...
– А! Напиши мне как-нибудь неявно, а я уж пойму!
Сравнение двух писем захватило меня, мысли закипели, перо застрочило по листам. Наверное, я написал по объёму достаточно на целую статью, только именовал из конспирации Бродского «наш», а Солженицына «тот». И у меня получалось, что «наш» против «того» проигрывает, потому что этот – только о себе, а «тот» обо всех.
Написанный текст не поместился даже в двух стандартных конвертах. Пришлось отправить три, довольно увесистых, опущенных в тот же самый ящик. Найман получил лишь один и тут же позвонил мне по междугороднему, недоумевая:
– Что это значит? Письмо без начала и конца, с полуфразы начинается, полуфразой кончается...
– Значит, это средняя часть. Я послал его в трёх конвертах.
– Точно?
– Что за вопрос? До трёх-то я считаю...
– Тогда ты разбирайся со своей почтой, а я разберусь со своей!
Я отправился сразу на Главпочтамт, меня тут же отфутболили в местное отделение связи, а там «с обезоруживающей откровенностью» признались:
– Да, контрольные изъятия у нас происходят, но очень редко. И – всегда на получателя, а не отправителя. Так что пусть адресат ваш побеспокоится, а мы здесь ни при чём...
Я это сообщил Найману, и он в запальчивости накатал жалобу в Министерство связи. Ответ ему пришёл на официальном бланке, отпечатанный типографским способом и с подписью самого министра: начато расследование, о результатах сообщим. Так они с тех пор и разбираются...
Тот год был памятен для меня и счастливыми событиями. Наконец-то в результате родственного обмена, сравнительно несложного, у меня образовалось своё жильё. Главное для меня – это вид, хотя и тишина, конечно, немаловажна. Окна нового жилища выходили на брусчатку Кронверкского (тогда – проспекта Максима Горького) и на трамвайные пути, и когда встречались сдвоенные вагоны так называемых «американок», а параллельно проезжал ломовой грузовик с прицепом, получалось неслабо. Но зато дальше ветвились деревья сада, кустилась зелень, и в разрывах листвы в ветреный день можно было увидеть блеск Петропавловского шпиля. Два окна (как два глаза) были слегка смещены от воображаемой середины так, что комната смотрела на мир вполоборота, потолок и стены создавали ещё одну точку схода, а чуть просевший пол (хвала метростроевцам!) образовывал третью, и я, не забывая уроки Марианны Павловны Басмановой, наслаждался из дальнего угла этим сложно оживлённым пространством.
Теперь надо было комнату срочно побелить, переклеить, покрасить! Сочувствие проявил Борис Иванович Иванов: как-то чётко по-командирски мобилизовал бригаду юных поэтов и художниц, и в день всё было сделано. Только Танечка Корнфельд старательно докрашивала раму окна, а Петя Чейгин (кто там был ещё – не упомню) мазал клейстером бордюр под потолком. Я наварил картошки, открыл банку сайры и выставил пару бутылок с приглашением всегда быть гостями в этом доме. Борис Иванович именно приглашением и заинтересовался, даже предложил конкретно собирать здесь, скажем, по четвергам «семинар неофициальной культуры». Это было для меня уже слишком, и я, извинившись, попросил гостей приходить в частном порядке, что они впоследствии и делали.
Оставалось меблировать мою комнату, которая уже выглядела нарядной и праздничной. Платяной шкаф оставили прежние жильцы, – им его просто было не вытащить в узкую дверь; с Таврической привезли старую тахту, круглый стол с парой стульев пожертвовал сестрин муж и мой зять Олег. Чтобы просунуть стол, пришлось сломать ему ногу (не зятю, конечно), но дело поправил громадный гвоздь, вбитый сверху через столешницу. Олег сколотил мне и книжные полки, вправив для украшения деревянное «полотенце», привезённое из северных путешествий. Жилище получалось на славу: образовались рабочий кабинет, спальня и столовая с гостиной – всё в одной комнате.
Здесь меня могла навещать (и навещала охотно) моя тайная возлюбленная, что, честно говоря, и было истинным смыслом моего домостроительства – отнюдь не подпольные семинары!
Комната давала приют и друзьям, а однажды и совсем незнакомому торговцу с Ситного рынка, обобранному в милиции. Я возвращался домой поздно, с последним поездом метро. У соседнего дома, во дворе которого располагался пикет, стоял крепкий мужичина с растерянным лицом. Он спросил, как проехать к Балтийскому вокзалу.
– На такси, если поймаешь. Метро закрыто.
– Деньги все отобрали. Возьми к себе переночевать.
Я заколебался. С одной стороны, сочувствую. С другой, недоумеваю: кто он? Рыночный ушкуйник? Наконец решился:
– В Бога веруешь?
– Верую.
– Пойдём.
Привёл. Дал ему хлеба с маслом, сунул. Уложил в углу. Выключил свет, но не сплю. Вдруг слышу голос:
– А где нож-то?
– Унёс на кухню. Спи. Нет ножа.
А на самом-то деле нож я забыл на столе, поблизости от него... Вот, устроил себе «русскую рулетку»! Он боялся меня, я – его. Проворочался весь остаток ночи, дремал чутко, как зверь. Ворочался и он. Чуть забрезжило в окнах, я ему:
– Всё. Быстро отсюда, пока соседи не слышат. Метро – из дому налево, до угла и через дорогу.
КАТАКОМБНЫЕ ХРИСТИАНЕ
В феврале того же года освободили Наталью Горбаневскую. Вместо тюрьмы её подвергали насильственной психиатрии. Казанская спецбольница, куда её поместили, считалась особенно мрачным местом.
Наталья стала наезжать в Питер, а после того как у меня образовалось своё жильё, останавливалась у меня. Ночевала в том же углу, где когда-то ютился «ушкуйник»; на завтрак я либо варил овсянку «Геркулес», либо жарил яичницу, в обед наше меню тоже не разнообразил. Было у меня лишь два дежурных блюда под условными названиями «варево» и «похлёбка». Их рецептов я не разглашаю, ибо тех ингредиентов уже не достать, прошу лишь поверить, что было вкусно и питательно. Запомнился один момент, когда вдруг – чуть не до слёз – защемило сердце жалостью. Я подносил тарелку, чтобы поставить перед ней, а она неожиданно цепко ухватилась за её края ещё в воздухе, как, вероятно, хваталась там за миску при раздаче. Об этих материях она рассказывала мало, больше говорили такие вот невольные жесты. Всё же я расспросил, почему она оказалась в психушке, в то время как остальные участники протеста – в лагере:
– Из-за того что кормящая мать? Или – потому что мать двоих детей?
– Нет, из-за этого меня сразу тогда отпустили, но в конце 69-го всё-таки арестовали... И академик Снежневский (вот кто точно будет гореть в аду!) поставил мне диагноз «вялотекущая шизофрения».