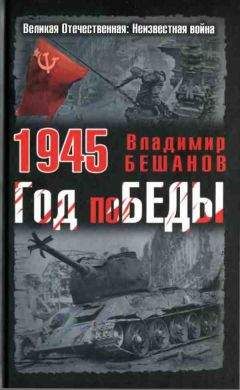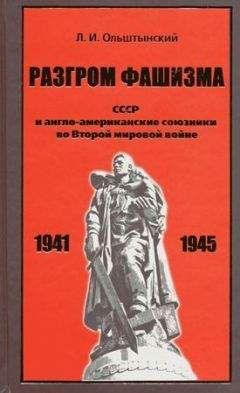Фаина Оржеховская - Шопен
Потом, когда за первыми впечатлениями начали проступать другие, когда рядом с красотой выглянули ошеломляющее безобразие и порочность, Шопен еще острее ощутил свое одиночество. Он скоро понял, что обман, нищета, злодеяние свили себе гнездо в Париже, может быть, прочнее, чем в других городах. Париж был не один, несколько Парижей скрывалось в его недрах. Воображение не справлялось на первых порах с разительными контрастами. Кричащие объявления о новых модах, косметических средствах, о небывалых, «безошибочных» способах лечения венерических и иных болезней, развешанные на стенах жилых домов, и над фронтоном консерватории, и даже на здании муниципалитета, вызывали досаду. Нельзя было пройти по улице, чтобы десятки людей разных возрастов – кто громко, кто шепотом – не предлагали бы свой товар. Сонники, молитвы на разные случаи, поздравления, любовные объяснения, хозяйственные и иные советы – все это мелькало в глазах, задевало за плечи, совалось прямо в руки. Идя по Парижу, надо было продираться вперед, как сквозь чащу. – Сильные ощущения! Сильные ощущения! – бормотал как бы мимоходом какой-нибудь испитой старичок, останавливая бегающие глазки на Фридерике и замедляя шаги. – Здесь недалеко кабачок «Амброзия». – Другой, весьма солидного вида господин в цилиндре, спрашивал:– Не угодно ли хоть крошечку счастья? – Он не был безумен. Он был попросту агентом фирмы, распространяющей брошюры «Как сделаться счастливым и богатым в короткий срок», и дела его хозяев шли удачно. Фридерика удивляло это умение парижан добывать деньги любым способом и фантастические, чисто парижские профессии, о которых не слыхать было в Варшаве при всей пестроте ее уличной жизни.
Постепенно перед ним открывались «пять Дантовых кругов» Парижа. Он не знал рабочих и мог только догадываться об их тяжелой жизни. Он не имел никакого дела ни с мелкими аферистами, ни с крупными финансовыми хищниками, поскольку не стал еще предметом купли или продажи. И с художниками пока не сблизился. Но он чувствовал, что в Париже неспокойно, что нет ни одного сословия и, может быть, ни одного человека, чье положение было бы совершенно прочно. После восстания лионских ткачей в Париже то и дело вспыхивали забастовки. Шопен видел мрачных, оборванных людей, на лицах которых можно было прочитать слова, ставшие лозунгом: «Жить, работая, или умереть в борьбе». И с каждым днем их становилось больше. А с другой стороны – Елисейские поля и Булонский лес, где ежедневно как бы совершается смотр богатства, где в экипажах красуются утопающие в цветах холеные женщины, имена которых произносятся восхищенным шепотом; немыслимая, вызывающая роскошь. Куда там Варшаве! Ее противоречия носили такой провинциальный, почти патриархальный характер! И если там произошел взрыв, то с какой силой он должен был разразиться в Париже!
В один из первых дней Шопен переехал из гостиницы на улицу Пуассоньер и занял маленькую комнатку с балконом. Он спокойно провел ночь, но уже с утра был разбужен громким пением. Наскоро одевшись, он подошел к балконной двери. Необычайное зрелище представилось ему. Улица была запружена народом. К дому, стоящему напротив, стекалась огромная толпа. Множество трехцветных знамен реяло в воздухе. Это была демонстрация, первая, настоящая, внушительная уличная демонстрация, которую Фридерик увидал в своей жизни. Надев меховую куртку, он открыл дверь и вышел на балкон. Внизу кричали: – Да здравствует Польша! Свободу полякам! – В доме, к которому приближалась толпа, жил французский генерал Раморино, в ноябре он был в Варшаве и принимал участие в восстании. Две мощные волны катили к этому дому: с одной стороны – учащаяся молодежь всего Парижа, с другой – рабочие и ремесленники. С ними шли женщины и подростки.
Полиция, гусары, конница всячески пытались помешать соединению этих двух потоков. Они грубо хватали людей, наступали, кричали, но толпы все шли и шли, нескончаемые, уверенные в своей силе.
– Генерал Раморино! – взывали в толпе. – Мы ждем вас! Но генерал не выходил на свой балкон приветствовать демонстрантов. Шопен с нетерпением ждал. Впрочем, генерал мог и не показываться. Не в нем было дело. Французы выражали свое единство с Польшей.
Фридерик в ту пору уже понимал двойственную природу польского восстания, понимал, что оно было обречено на провал, и не надеялся на внезапный благоприятный поворот событий. Но когда на двух языках – французском и польском – зазвучала «Варшавянка», у него задрожали, колени. Здесь поют «Варшавянку» во время демонстрации! Ему не приходило в голову, что в угнетенной, зависимой Польше подобное нашествие было бы уже началом восстания, в то как в Париже эти демонстрации довольно часты и не приводят к коренным изменениям.
Он уже готов был спуститься вниз как был, в своей беличьей куртке, без шапки, как вдруг на улице увидал своего земляка, пианиста Совиньского, который с трудом пробирался к его дому. Тут Шопен вспомнил, что его и Совиньского, тоже эмигранта, к двенадцати часам ждали у княгини Чарторыйской. Но спокойное течение суток нарушилось. Совиньский нырнул куда-то и вскоре постучал к Шопену. – А! Ты тут – воскликнул он. – Насилу к тебе добрался! Кабриолета нигде не достанешь. Переждем немного и отправимся пешком. Здесь близко.
– Куда же мы пойдем? Посмотри, что происходит! Совиньский махнул рукой.
– Ничего! Скоро станет совсем спокойно. Через какой-нибудь час улица будет чистенькая! Вели дать кофе, поболтаем, а тем временем все войдет в свою колею!
Фридерик посмотрел на него с удивлением. – А что ты думаешь? – продолжал Совиньский. – Ведь толпа безоружна! Пройдутся по улицам, попоют песни, толпа кое-кого покалечит – и станет тихо.
– И ты можешь говорить об этом так хладнокровно, почти глумливо? Ведь это огромное событие!
– Ох-ох-ох! – вздохнул Совиньский, покрутив свисающие черные усы. Он был еще молод, но толст. Может быть, преждевременная тучность сделала его скептиком. – Этот Раморино еще вчера уехал из Парижа! Меньше всего он желает быть героем! Заварил кашу и сам не рад!
Но Совиньский ошибался насчет сроков демонстрации: она продолжалась весь день, до самой ночи. Фридерик не помнил, как шло время. Теперь он увидал Париж с какой-то новой стороны. Это был поистине город революции. Не зарево ли восемьдесят девятого года осветило небо?
На улице Шопена и Совиньского закружил водоворот. Они не попали к княгине. Проголодавшись, они спустились в маленький подвальный погребок, один из многих на той улице. За столиком, который они выбрали, вскоре к ним присоединились двое мастеровых. Один, в блузе, перепачканной алебастром, громко бранил короля; другой доказывал ему, что слабоумный Луи-Филипп не так уж виноват в несчастьях Франции, ибо он только болванка в руках банкиров… Совиньский вмешался в разговор, он любил рассуждать о политике. Узнав, что перед ними польские изгнанники, мастеровые оживились.