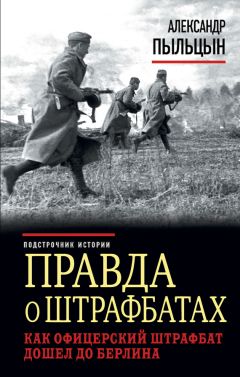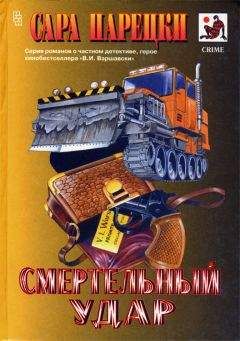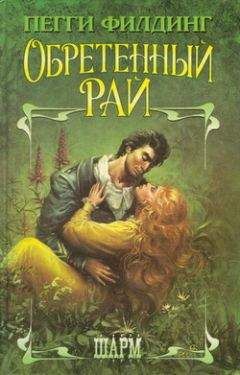А Пыльцын - Штрафной удар, или Как офицерский штрафбат дошел до Берлина
Все когда-нибудь заканчивается. Окончилась и моя "лесозаготовительная" командировка, а вместе с ней и мой "театральный сезон". Уехал я в свое Алкино, встречи стали снова редкими, а вскоре Рита сообщила, что формирование госпиталя заканчивается и через несколько дней их должны отправить на фронт.
Побежал я к своему командиру роты старшему лейтенанту Нургалиеву, и он разрешил мне съездить в Уфу, но к вечеру обязательно вернуться.
Едва застал их дома. Они были уже в военной форме и собирали свои вещички. Мне удалось помочь им погрузиться в вагон и, не дождавшись отъезда их эшелона, я попрощался со всеми: надо было успеть вернуться в полк. В первый раз увидел Риту и ее маму, Екатерину Николаевну, в гимнастерках и впервые не стесняясь поцеловал мою солдатку в губы, вытер с глаз ее набежавшие слезинки, едва сдержав свои. И, поскольку уже наступал вечер, бросился к поезду, тронувшемуся в направлении Алкино, на ходу вскочил на подножку платформы, и вскоре мы исчезли друг у друга из вида.
Несколько дней не находил себе места. Не давала покоя мысль, что вот она, еще не окрепшая после блокады девочка уезжает на фронт, а я, взрослый мужик, которому вот-вот стукнет двадцать, все еще в тылу, в запасном полку, хотя многие мои коллеги-офицеры уже убыли на фронт вместе с маршевыми ротами, которые мы здесь готовили. И уже который мой рапорт командир полка, фронтовик, майор Жидович возвращает с лаконичной резолюцией: "10 суток домашнего ареста за несвоевременную просьбу".
Домашний арест тогда для нас звучал как отказ от увольнения в те же Чишмы или в Уфу, да еще удержание (как мы тогда шутили - "в фонд обороны") 25 процентов денежного содержания за каждый день ареста.
В нарушение субординации побежал наутро прямо к командиру полка, но тот ответил еще лаконичнее: "Не спеши. Все там будем!". Однако вскоре, уже, кажется, на мой десятый рапорт судьба откликнулась: стали формировать офицерскую команду в резервный офицерский полк округа для дальнейшей отправки на фронт. А незадолго до этого было удовлетворено мое заявление о приеме кандидатом в члены ВКП(б). Так что на фронт я уже собирался если еще не полноценным коммунистом, то все-таки уже и не юным комсомольцем. Может, это событие тоже повлияло на решение командира полка включить меня в состав такой команды.
Но как непредсказуемо меняются иногда судьбы человеческие! В 1960 году, когда с того памятного 43-го прошло 17 лет, я, уже полковник воздушно-десантных войск, проходивший службу в Костроме, после операции по удалению части щитовидной железы, ложусь в ярославский гарнизонный военный госпиталь для комиссования на предмет годности, а вернее - негодности к дальнейшей службе в ВДВ. И там встречаю в больничной пижаме своего бывшего командира запасного полка, уже полковника в отставке Жидовича. Надо же оказаться в одном и том же месте, в одно и то же время! Ну, не судьба ли?
И как ни странно, он не просто вспомнил, но неожиданно для нас обоих почти сразу же узнал меня. Он, тогдашний мой командир, оказывается, вскоре тоже выпросился у начальства на фронт, принял под командование гвардейский стрелковый полк, но в первых же боях был тяжело ранен, долго залечивал свои раны в госпиталях и остался дослуживать свои армейские года до пенсии здесь же, в Ярославле.
Долгими вечерами, пока меня не выписали, признав негодным для дальнейшей службы в десантниках, мы вспоминали и Алкино, и свои боевые дела и годы.
Рассказал он мне и о судьбе своих замов по запасному полку. Майор Родин, могучий красавец, при повторном заходе на фронт погиб. Подполковник Неклюдов, нам, молодым лейтенантам, недавно сменившим петлицы на офицерские погоны, напоминавший своей аккуратной бородкой и манерами классических представителей офицерства старой русской армии, был тогда в солидных летах, на фронт его не отправили, а сразу по окончании войны уволили в запас.
Рассказал мой командир и о дочери Неклюдова, библиотекарше нашего полка и яркой звезде концертов полковой самодеятельности, которые устраивались в честь проводов маршевых рот, отправляемых в действующую армию. Я до сих пор помню ее сильный, проникновенный грудной голос, ее "над полями, да над чистыми". Профессиональной певицей она так и не стала, хотя, по моему мнению, у нее были для этого все данные.
Вот такой экскурс в прошлое случился у нас в ярославском госпитале. А тогда, в 43-м, после отъезда Риты с госпиталем из Уфы, у нас наладилась интенсивная переписка, настоящий "почтовый роман". Из ее писем я узнал, что они обосновались в Туле, даже помню, что госпиталь размещался в школе на улице Красноперекопской. (Много лет спустя, когда после войны мне доводилось служить близ Тулы, мы побывали здесь.)
Уже потом, когда и я оказался на фронте, Рита мне сообщила, что теперь их госпиталь вошел в состав белорусского фронта. Так еще раз милостивая судьба свела нас тогда на одном фронте войны, что и позволило нам там встретиться и уже больше не расставаться.
В эту пору у меня, как и у многих влюбленных молодых людей, "прорезалась" поэтическая страсть, и я писал своей возлюбленной стихи и даже целые письма в стихах. Кое-какие те фронтовые записи у меня сохранились. Вот некоторые из них, конечно далеко не совершенные:
Хлипкая землянка. Злится ветер.
Вспомнилась родная сторона.
Ночи лунные и теплый летний вечер,
Вальс на танцплощадке и... война.
Много пережил за дни разлуки,
Но не усомнился я в твоей любви...
Мне приснилось, что ты свои руки
Все запачкала в моей крови.
И что ты меня перевязала
В полутемной комнатке пустой
Бомбами разбитого вокзала.
То был сон... Но ты была со мной!
А вот еще одно, из другого письма:
Я пишу, родная, каждый божий вечер,
Если украду у той войны хоть полчаса.
И тогда сквозь строчки вижу твои плечи,
Вижу твои ясные, серые глаза.
Этот взгляд, как солнце, сердце согревает.
Он как амулет. С ним не страшна гроза.
В тяжкие минуты силы прибавляют
Милые, любимые, ясные глаза.
Конечно, примитивны эти стихи, но даже сейчас они пахнут тем пороховым временем, той гарью войны, которой мы дышали, в которой жили, любили, страдали.
Я даже маме Риты, Екатерине Николаевне после той памятной встречи в Лохуве, описанной мною в предыдущей главе, свое признание в любви к Рите и просьбу о материнском благословении выразил так:
...А в день, когда пробьют часы Победы,
Настанут дни спокойней и светлей,
Мы будем вместе. Радости и беды
Со мной разделит Рита, а я - с ней.
Тогда отметим сразу дни рожденья,
Которые прошли, которым еще быть...
Теперь же дайте нам благословенье,
Чтоб в счастье жить, всегда, всю жизнь любить...