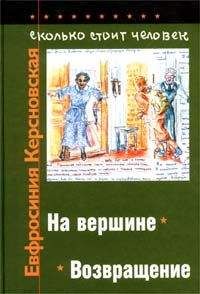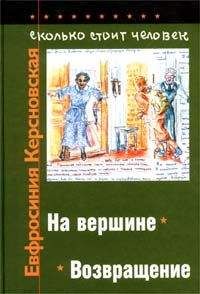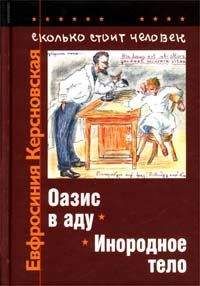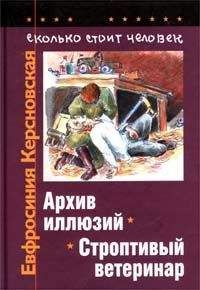Евфросиния Керсновская - Сколько стоит человек. Повесть о пережитом в 12 тетрадях и 6 томах.
Что привело их в Сибирь? Что довело до такого состояния? Понять этого я так и не смогла. Говорили, что это дети ссыльных, потерявшие своих родителей и «усыновленные» колхозом. «Потерявшие»? Умерли они, что ли, от голода в 33-м году? Тогда, однако, умирали в первую очередь дети. Может, погибли родители в 37-м? Так за 3–4 года они не успели бы так одичать! Или их родители где-то живы, в тюрьме, а детей просто отобрали, как у наших женщин отбирали мужей, сыновей?
Много непонятного встречала я на каждом шагу! Кое-что поняла после. Но как поет Катя — «Ночь тиха» или Толя Гусев — «Средь шумного бала», этого я забыть не могу.
«Выстойка»
Сезон лесоповала на Анге подходил к концу. На зиму нас должны были перегнать на другую лесосеку. Куда — нам не объявляли, а пока что меня и Груню Серебрянникову откомандировали километров за сорок отсюда — в Усть-Тьярм.
В этом гиблом краю — в Нарымской тайге — лишь зимой, когда большинство болот замерзает, можно с грехом пополам передвигаться с места на место. Летом это почти немыслимо. К зимнему сезону надо подготовить дорогу — зимний путь, по которому зимой предстояло подвозить сено из Анги в Усть-Тьярм для лошадей лесовозчиков. «Дорога» — это не то слово, но другого я не нахожу, чтобы объяснить то, что ее заменяет. Еле заметная тропа вьется по так называемым «каргызовым болотам» — болотам, поросшим редкими, чахлыми, искривленными лиственницами и пихтами. Всюду жидкая и глубокая грязь, из которой выступают круглые кочки, поросшие осокой и змеевиком и напоминающие головы папуасов. Надо наступать на эти «головы», а они шатаются! Лишь оступишься, и весь сапог погружается в липкую грязь! Там, где поверхность болота гладкая, там зыбун, он и зимой не замерзает!
Удивительно, с какой уверенностью вышагивает Груня! Ничего не скажешь: кореная сибирячка-таежница! Когда дорога проходит по песчаным гривам, то продвигаться можно почти беспрепятственно, виляя между соснами; зато в ельнике работы было по горло: питательный слой, в котором располагаются корни, — всего несколько сантиметров, а глубже — песок. Так что при малейшем ветре деревья валятся, подымая на корнях своего рода стенку — вроде гриба с плоской шляпкой. Сдвинуть с места дерево, упавшее поперек дороги, невозможно. Приходится выпиливать проход, достаточный для прохождения саней, и образовавшийся сутунок[6] откатывать в сторону. Утомительная и весьма трудоемкая работа!
Предполагалось, что пробудем мы в пути дня 4, и продукты нам выдали на неделю. Вот что нам дали: по одному «кирпичу» хлеба; по стакану пшена (и то неполному); одну соленую щуку на двоих: Груне — голову, мне — хвост. Даже трудно поверить, что на таком пайке можно работать несколько дней, причем ночевать под открытым небом в летней одежде, в сапогах и даже без рукавиц! Но я была рада: хоть какое-то разнообразие. А то, что это опасно и трудно — ерунда!
Хорошо, что моим ментором[7] была опытная сибирячка, выросшая в тайге, среди болот! Без нее я бы замерзла на первом же ночлеге, если до того не утонула бы в зыбуне!
Накануне была еще золотая осень, но, когда мы выходили, уже основательно подмерзало. Мела поземка. К вечеру сильно приморозило. Мы, особенно я, промокли чуть не до пояса. Счастье, что Груня была не только хорошим проводником, но и опытным лесовиком. Она уверенно указала место для ночлега. Пока я рубила еловый лапник и связывала — старательно, но неумело — шалаш, Груня свалила две смолевых сухостоины, распилила их и обтесала так, что, положенные рядом, они почти вплотную прилегали одна к другой и были обращены комлями[8] чуть вверх и в сторону шалаша. Несколько смолевых щепок — и огонь запылал между бревнами, а жар — почти без дыма — потянул в наш шалаш. Вскоре мы не только обогрелись, но разомлели от приятной теплоты. Мы разулись и обсушились, вскипятили в кружках воду, и тогда я по достоинству оценила это гениальное сибирское изобретение! Называется оно, если память мне не изменила, нодия. И еще я поняла, какое это блаженство — попить кипятку! Его почему-то здесь называют чаем.
Наутро мы убедились, что это уже настоящая зима! Мороз был градусов 18–20. Мы быстро шли; еще быстрее расправлялись с валежниками и буреломом, преграждавшими путь. Надо было во что бы то ни стало добраться до Торгаевского балагана — среднее между сторожкой и шалашом, построенным некогда черкесским охотником Торгаевым. В щели дуло, в окне не было стекол. Но окно мы заткнули сеном, растопили печурку и вскипятили «чай». Здесь я съела последний кусочек хлеба. Осталась лишь кожа от соленой щуки, которую я весь следующий день сосала, чтобы обмануть щемящий голод.
Незадолго до полуночи к балагану подъехал лесной объездчик. Тут-то впервые я увидела то, что в Сибири называется «выстойка». Потную, тяжело водящую боками лошадь (расседланную, необтертую, ничем не укрытую) привязывают коротко, высоко задрав ей голову. И так, привязанную к дереву, оставляют часа на два! Она стоит вся заиндевевшая, кучерявая от мороза. На морде намерзает борода и сосульки. Лишь после такой выстойки лошадь поят, кормят и иногда вводят в стайку, хотя сама стайка — несколько досок — не меняет положения. И сибирские лошади просто на удивление крепки, выносливы и бесстрашны. Говорят, благодаря выстойке. Уж не оттого ли сами сибиряки до того крепки и упорны, что сами они на каждом шагу подвергаются подобной же «выстойке»? Не раз задумывалась я над этим вопросом…
Возвращение на Ангу
На четвертый день мы дошли до Усть-Тьярма. Последний день я подкреплялась лишь брусникой, которую добывала из-под снега. Это, может быть, вполне удовлетворяет куропаток, но для меня было явно недостаточно.
Груня решила остаться еще дня на два в Усть-Тьярме. Я же на следующий день еще задолго до рассвета пустилась в обратный путь. С собою взяла лишь топор и тот показался мне ужасно тяжелым. Голод подгонял меня: дадут же мне хоть чего-нибудь на Анге, даже если я вернусь днем раньше, а паек дали на неделю? В глазах рябило от голода и усталости. Но вот вдали замаячил барак. Увы! Он был пуст. Нетопленая печь. Снег на полу. Трудно было уснуть! Голод разрывал внутренности, усталость разламывала кости, и не было сил сходить в лес за дровами. Но все же я забылась тяжелым сном с кошмарами. Утром я поплелась в Харск.
Население нашего барака, очевидно, эвакуировали лишь накануне. Следы не успело занести, и я шла по хорошо утоптанной тропе. К полудню я была в Харске. Рабочих бараков там не было, и наших бессарабцев распределили по избам. В конторе мне указали, в чьей избе я буду жить: у белоруса Ивана. Там же я застала Анну Михайловну и Лотаря.