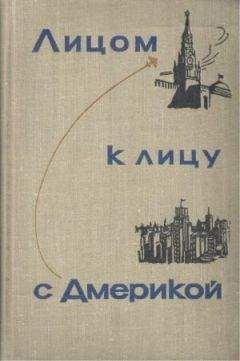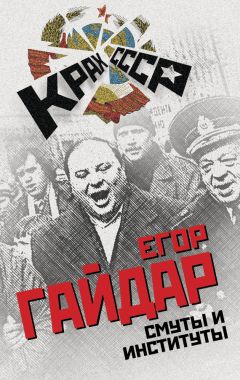Алексей Аджубей - Те десять лет
Летом 1964 года во время визита Хрущева в Швецию премьер-министр Эрландер заговорил с ним о намерении наградить академика П. Л. Капицу, блестящего советского физика, золотой медалью Шведской академии. Никита Сергеевич воспринял разговор очень нервно. Он прямо сказал Эрландеру, что Советское правительство может воспринять это известие как вызов. «Почему?» — удивился Эрландер. «Многие у нас воспримут это как желание выделить физика, который отказался работать над атомным оружием, поступил непатриотично…»
Эрландер не стал переубеждать Хрущева, да и сделать это было невозможно. При всем том, что Хрущев отыскивал пути к спокойным отношениям между странами и народами, он не смог полностью разрушить сталинской установки недоверия к загранице. «Железный занавес» был поднят, но возле стояли очень бдительные товарищи. Смешно и грустно вспоминать, но замечательная балерина Майя Плисецкая выехала впервые за границу с личного разрешения Хрущева, под его поручительство. В этом случае Хрущев не отреагировал на «сигналы» тех, кто запугивал его возможными последствиями — что, если Плисецкая станет невозвращенкой? Такие вот проблемы решались на самом верху и не без борьбы.
В своих воспоминаниях Никита Сергеевич пишет о многих подобных историях: о выезде за границу пианистов С. Рихтера, В. Ашкенази, о том, что он лично стоял за большие свободы на этот счет. Но вот что примечательно. Рассуждения о своих гуманных решениях он сопровождает такой фразой: «Я шел на большой риск и доказывал коллективу, с которым я работал, что без риска нельзя…» Вот это «доказывал» и «без риска нельзя» многое объясняет в позиции Хрущева, показывает атмосферу, которая тогда в стране существовала…
Хрущев не раз говорил и на больших совещаниях, и в узком кругу, что нельзя допускать идеологической разболтанности, из которой, по его мнению, в общественной жизни могут возникнуть неуправляемые процессы. Он, например, не очень-то ценил эренбурговское определение «оттепель», считал, что иная оттепель может обернуться катастрофическим паводком. Эту позицию Хрущева использовали довольно умело. К 1963 году, когда идеологическая ситуация особенно обострилась, Хрущев был «заведен» до предела. Ему всюду мерещились происки злосчастных абстракционистов, обывательщина, мелкотравчатость. На его мироощущение явно давил внутренний цензор, заставлявший проверять себя: не слишком ли отпущены вожжи, не наступил ли тот самый грозный паводок? В нем жили два человека. Один осознавал, что необходимы здравая терпимость, понимание позиций художника, предоставление ему возможности отражать реальную жизнь со всеми ее действительными противоречиями. Другой считал, что имеет право на окрик, не желал ничего слушать, не принимал никаких возражений.
Теперь чаще всего вспоминают именно такого Хрущева. Но мне хочется вот о чем рассказать. Именно в 1963, «остром» году Никита Сергеевич посмотрел как-то на «Мосфильме» картину об американских летчиках, которые должны были нанести по нашей стране атомный удар, но, поднявшись в воздух, вопреки команде сбросили бомбы в океан. Я так и не смог узнать название этого фильма. Рассказывали, в какую ярость пришел Хрущев. Как же так, мы показываем наших потенциальных противников этакими благородными рыцарями, гуманистами, нарушающими приказ о бомбежке России! Какую же идейную нагрузку несет такой фильм? Он что, сделан советскими кинематографистами или его производство оплачено американцами? Хрущев поручил Суслову разобраться в этой истории.
Следствие началось, а через несколько дней было готово соответствующее постановление. В нем шла речь не только об этой картине. В «черный список» включили немало других, в том числе и только что вышедший на экран «Девять дней одного года». Как главный редактор газеты я был ознакомлен с проектом этого постановления. Оно вызвало у меня смятение. Дело в том, что за несколько дней до этого «Известия» статьей А. Аграновского решительно поддержали фильм «Девять дней одного года», а «Правда» поместила резко отрицательную рецензию на него В. Орлова. Тогда я не стал звонить «главному» «Правды», чтобы выяснить причину отповеди нашей газете, не подумал, что за этим кроется нечто большее, чем просто разница в оценках.
Прочитав проект постановления, решил посоветоваться с одним, из помощников Хрущева. Он подтвердил мои худшие опасения: раздраженная реакция Хрущева на фильм об американских летчиках проецировалась Сусловым на другие фильмы, никак с ним не связанные. Что было делать? Ведь речь, по сути, шла о резкой перемене взгляда на работы лучших мастеров кино, на фильмы, созданные после XX съезда. Владимир Семенович Лебедев, занимавшийся в секретариате Хрущева вопросами идеологии, сам ничего уже поделать не мог. «Просись на прием к Хрущеву, объясни ему ситуацию, выскажи свою точку зрения». — «Когда, как?» — спросил я. «Прямо сейчас, времени в запасе нет. Хрущев один в кабинете (шел уже одиннадцатый час вечера), я доложу».
Надо сказать, что на прием к Хрущеву я просился впервые. Не знаю, что он подумал, когда Лебедев доложил ему обо мне.
Никита Сергеевич выглядел очень усталым. Спросил, в чем дело. Коротко рассказав о ситуации, я положил листок постановления на стол и ушел. На следующее утро в ЦК было срочное совещание. Его вел Хрущев. Не хочу по памяти воспроизводить его выступление. Постановление в том виде, как оно готовилось, не было принято. Многие прекрасные картины, в том числе и «Девять дней одного года», составившие гордость обновленного кинематографа, там не упоминались.
Не так просто, как иным товарищам кажется, давались мне и другим газетчикам подобные акции. Думаю, что Суслов не простил мне этого обращения к Хрущеву. Когда на Пленуме ЦК речь шла о смещении Никиты Сергеевича, он бросил несколько реплик в мой адрес. Одна поразила меня. «Представьте себе, — говорил Суслов, — я открываю утром газету «Известия» и не знаю, что в ней прочитаю».
В «отставке» Хрущев вроде бы осознал, что не все ладилось у него во взаимоотношениях с интеллигенцией. Однако до конца дней он полагал, что его требования носили вполне оправданный характер — нельзя даже в мелочах поступаться идейными убеждениями. Когда он «размахивал кулаками», стыдил, бранил, горячился, он не держал камня за пазухой. Во время более чем жаркой дискуссии со скульптором Неизвестным он пообещал прийти к нему в мастерскую. Видел вполне реалистические композиции скульптора и говорил: «Вот это другое дело».
Автором памятника на могиле Хрущева стал Эрнст Неизвестный.
На выставке в Манеже, посвященной тридцатилетию МОСХа, пояснения Хрущеву давал президент Академии художеств Серов. Я шел в толпе, окружавшей Никиту Сергеевича, слышал, с какими намеренно негативными акцентами говорил Серов о Фальке и некоторых других художниках, впервые за многие годы выставленных явно «для объективности» (а точнее, чтобы «раздразнить», разъярить Хрущева). Так вот, удостоверяю, что, разглядывая картины, Хрущев никаких грубых оценок не давал. Тогда его повели на второй этаж, где в углу небольшого зала сбилась группа абстракционистов. Здесь он не сдержался.