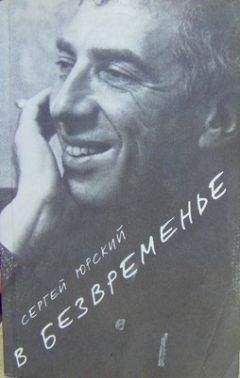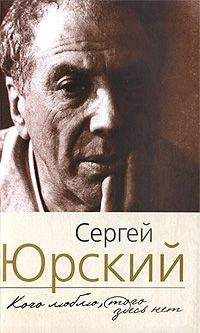Сергей Юрский - Игра в жизнь
Мы играем. И публика смеется. В нашем капустнике — потому что он хорошо сделан — есть и лирическая струя, и зал замирает. Пошли в дело «ударные» номера, и снова хохочут — навзрыд. Я очень хочу увидеть в зале лицо моей женщины. Успех очевиден, я полностью владею залом, я хочу убедиться, что и она восхищена. Да нет, мне просто хочется увидеть ее. Я вдруг понял, как я соскучился по ней за этот час, что идет наш капустник, как я виноват перед ней за глупое раздражение последних дней. Я знаю, где она сидит я все собираюсь бросить туда взгляд. Почему у меня никак это не получается? Опыт еще невелик, но я уже знаю, что обмен взглядами со зрителями, тем более с теми, в ком заинтересован, — это «короткое замыкание». Мой персонаж от этого взгляда получает пулю в лоб. Я предал его — он умирает! Его больше нет, и остаюсь я, лишенный права быть на сцене. Если Я не ОН, то зачем я здесь? Тогда все мои движения — бессмысленное кокетство и притворство.
Я продолжаю играть, успех нарастает, но я мучительно хочу убедиться, что она — моя женщина — разделяет этот успех. Интуитивно я начинаю предчувствовать ужасную возможность — а вдруг ее раздражает и этот гогот, и овации, и мои потные старания?
Я рискую и на одну секунду бросаю взгляд туда, на нее. Столик слева от сиены, у окна. Там мой пустой стул, а рядом... а рядом тоже пустой стул... моя женщина исчезла. Сердце подскочило к горлу, а потом рухнуло вниз. Все меркнет — и внутри, и перед глазами. Я снова гляжу в зал — вот она! Она здесь, но она пересела за соседний столик. Она не смотрит на сиену, а разговаривает с какой-то смутной личностью. Откуда он взялся? Я продолжаю роль лишь по инерции. Не надо было смотреть.
А вечер, а ночь, а праздник катится дальше. Спектакль окончен... успех выпит... идет общий пляс и пьянка. Теперь-то можно расслабиться, ну, теперь-то?! По во мне мучительно нарывает заноза, которая вонзилась в сознание в этом секундном взгляде со сцены в зал. Запретный взгляд! Смотреть можно только в одну сторону — из зала на сцену!
Besa me muchoБезоглядная новогодняя ночь! Она подпорчена, но она же длинна, она бесконечна, если бы... если бы только... Черт побери, мне играть — утром! Да! Первого января в 11 30 утра начало. И у меня очень большая роль. Я должен быть в форме. Стыдно выйти на сцену БДТ с Казико, с Корном, с Копеляном, Стржельчиком, Шарко, — выйти мне, тогда еще студенту, взятому на главную роль, и не играть в полную силу. Надо хоть немного поспать. Ведь уже четверо суток почти не смыкаем глаз. А может, плюнуть, совсем не спать? Я еще молод, выдержу...
Не рассвело. В Ленинграде зимой вообще никогда не рассветает. Снег несется сплошной пеленой, и за пеленой этой тусклые желтые кружочки фонарей, и ничего они не освещают. Мы идем с моей женщиной, низко склонив головы, пряча глаза от ветра. Встречаются такие же парочки. Встречаются пьяные в дурацких грубых масках — заяц, волк, свинья. Бегут девчонки с зажженными бенгальскими свечками. «С Новым годом, с новым счастьем!» — кричат они с другой стороны Невского.
Я провожаю мою женщину. Мы целуемся на обшарпанной лестнице. Все ее формы ощутили мои руки. Пахнет кошками и ржавым железом.
Ты что, уходишь?
— Да! Я ухожу!
Не забывайте: в те годы мы, средние молодые люди, не имели ни отдельных квартир, ни отдельных комнат. Мы не имели места для отдельной жизни. Пуповина не отрезалась Теснотой и нищетой мы были связаны со своими предками. В комнатах, в которых спали мы, спали еще наши родители, или тети, дяди, или еще кто-то. Одиночество вдвоем — запретный плод. Ночество (от слова «ночь») — это обжимание в подворотне или задыханье страсти на заплеванной лестнице, где слышны шаги сверху и снизу. Это прерывистые объятия на коммунальной кухне, куда выходит пить воду из крана сосед в подштанниках.
Я ухожу! Уже угреет, хотя нет никаких признаков утра. Светел только снег. Все остальное темно. Уже утреет, потому что теперь только сказалось напряжение премьеры и усталость последних дней. Через четыре часа мне надо быть в театре, еще через тридцать минут после этого начать большую роль. Да, в зале будут тысяча двести непроспавшихся людей с детьми, они будут кашлять и шуршать конфетными обертками, но они придут смотреть наш спектакль, и его герой — мальчик, поэт и идеалист, и этого мальчика играю я. У меня не должны быть опухшие глаза, и от меня не должно пахнуть водкой.
Я ухожу! Уже утреет. Мне еще час добираться до моей коммунальной квартиры, до постели Утренние троллейбусы редки, а такси не взять ни за какие деньги.
— Ты что, уходишь?
— У меня утренник...
— Иди.
— Подожди, ты пойми...
— Иди! Уходи... и не приходи... Ненавижу!.. Я все видела... я все поняла... ты мне от всей ночи оставил двадцать минут, и то танцевал с этой старухой...
— Перестань, не выдумывай...
— Иди... уйди... ненавижу... не трогай меня!
Она впивается ногтями в мое лицо. Я отталкиваю ее, вытираю щеку. Кровь.
— Ты что? Так нельзя... я актер... мне завтра выходить на сцену. Что ты сделала с моим лицом?
— Ты не мужик! Ты... ненавижу!
Я ухожу. Да, мужик, настоящий стопроцентный, должен вести себя иначе. Я не знаю, как иначе, но догадываюсь — иначе, чем я. Я не мужик. Я актер. («Я чайка. Нет, не то. Я актриса...») Мне бьет в затылок метроном моего ритма жизни. Вот она, твоя женщина. Она еще возится с замком, отпирая дверь. Взлети по лестнице, схвати, обойми, проси прощения, целуй ноги. (Э-э, какая литературщина!) Или иди к своим скучным зрителям играть ОЧЕРЕДНОЙ спектакль, выпрашивать у них успех и славу. (Э-э, какое тщеславие!) Выбирай, выбирай, выбирай! Выбирай! Я выбрал женщину, но...
Я ухожу.
К утру метель стихла, а мороз усилился. Но так и не рассвело. Пьеса, которую я играл утром, называлась «В поисках радости».
Для любителей пофилософствоватьСчастлив тот, кто не сожалеет о сделанном выборе. Того, кто сожалеет, охватывает печаль. Потом тоска. Потом отчаянье. Сердце сжимается, и из него выдавливаются стихи.
Сумерки, сумерки. Все будто умерли.
То ль это явь, то ль в бреду —
Холодно, боязно. Долго нет поезда.
Вдоль по платформе иду.
.........................................
Электричка стучит, пустая почти.
Достань письмо, снова прочти.
Как это там? — «Мы чужие, учти!»
Учту, учтешь, учтем, учти...
Мелькнул еще километр пути.
Электричка стучит, пустая почти.
Город уж скоро. Без трех одиннадцать.
Клочки письма улетели прочь.
Поезд в сплетение стрелок ринулся.
Кончились сумерки. Въехали в ночь.
Пробелы в тексте. В памяти. Пропуски — встреч, возможностей, свиданий, радостей. Исполнение одного долга вытесняет заботу отдавать другие долги Есть приоритеты — надо выбрать главное. Сперва страх, потом стыд. Страх, что ошибешься, что не дадут осуществить. Стыд, что ошибся, что не так сделал, как хот ел. А если вернуть, размотать назад? Привязать узелком ниточку к ручке двери, из которой когда-то вышел. Пусти разматывается катушка, пусть тянется за гобой нитка по всем поворотам, подъемам и спускам. Когда покажется, что впереди тупик, возьмись за нитку и попробуй пойти обратно, поищи ту дверь, из которой вышел на простор, — тогда казалось, что это ты на простор выходишь. Поищи ту дверь. Не выйдет! Ноги устали, нитка с другими сплелась. И двери той нет. Там теперь ворота. Или глухая стена. Только ручка от двери валяется, и к ней нитка привязана. Может, и не твоя. Если б ты сделал хоть один другой поворот в лабиринте твоей жизни, это был бы не ты. Смирись с пробелами и пропусками — они твой выбор. Оборви нитку — ты свободен, и каждая новая секунда есть новый выбор. Пробел-то существует в длинной строке текста. Помни пробел, но цени строку.