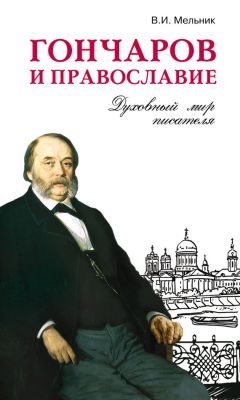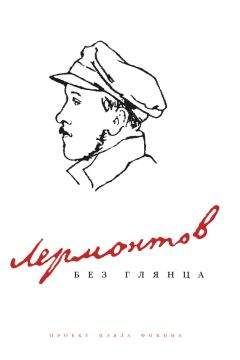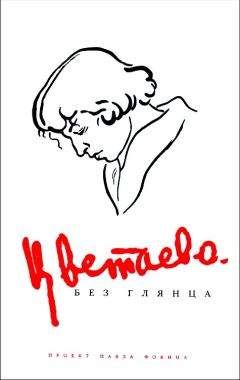Павел Фокин - Гончаров без глянца
Петр Дмитриевич Боборыкин:
В литературных и светских кружках Петербурга давно ходили толки о том, что автор «Обрыва» заподозрил своего ближайшего сверстника Тургенева в похищении у него замысла лица Базарова, так как его собственный нигилист был им задуман давно, раньше появления «Отцов и детей». И в начале семидесятых годов эта идея особенно сильно бродила в его душе. Ближайшие его знакомые в разное время передавали мне подробности о взрывах этого живучего подозрения, которое питалось, вероятно, всем складом жизни Гончарова, жизни старого холостяка, привыкшего перебирать в себе на всевозможные лады малейшую подробность в своих человеческих и писательских испытаниях и впечатлениях. Поэтому собеседник, знавший про такой болезненный пункт его души, должен был всегда держаться настороже и лучше совсем не упоминать о некоторых именах и книгах. Я слышал от тех же лиц, что в половине семидесятых годов писательская подозрительность все в том же направлении дошла до того, что Гончаров видел во многом выходившем тогда из-под пера парижских натуралистов, приятелей Тургенева, подкопы под него; находил у них даже свои сюжеты и замыслы лиц.
Иван Александрович Гончаров:
Если б я не пересказал своего «Обрыва» целиком и подробно Тургеневу, то не было бы на свете — ни «Дворянского гнезда», «Накануне», «Отцов и детей» и «Дыма» в нашей литературе, ни «Дачи на Рейне» в немецкой, ни «Madame Bovary» и «Education sentimentale» во французской, а может быть, и многих других произведений, которых я не читал и не знаю.
Анатолий Федорович Кони:
Так было и с Гончаровым, который вообще отличался мнительностью. Это состояние его, как видно из писем к Никитенко, дошло до своего апогея в 1868 году, когда, под влиянием встреч за границей с какими-то русскими семействами, которые, догадываясь о его больном месте, бередили своими намеками его душевную рану и «для потехи возбуждали чуть затаившийся пожар», он даже хотел прекратить печатание «Обрыва», содержание которого будто бы уже передано Ауэрбаху и будет использовано последним в его новом романе. Под влиянием этого состояния он писал в 1868 году Стасюлевичу: «Вы знаете, чего я хотел в своем сочинении, какие честные мысли, добрые намерения руководили мной и как много теплой любви к людям и к своей стране разлито в этом моем фантастическом уголке России, в его людях и т. д.
И вдруг — не только безучастие, а какой-то злой смех, глупая вражда вместо ласки и участия еще до появления труда приветствуют меня. Хочется мне поскорей кончить и отдать вам, чтобы поскорее покраснели хоть немного те, которые, ничего во мне не понимая и не допуская никакой исключительности в натуре, ничего не нашли другого, кроме злого и грубого смеха, да еще предали меня заживо в чужие руки на глумление и на съедение». В другом письме он пишет: «Мне хочется сказать в Райском все, что я говорил вам о себе лично. Вы знаете, какой я дикий, какой сумасшедший… — а я больной, загнанный, затравленный, не понятый никем и нещадно оскорбляемый самыми близкими мне людьми, даже женщинами, всего более ими, кому я посвятил так много жизни и пера… Жду утешения только от своего труда: если кончу его — этим и успокоюсь и тогда уйду, спрячусь куда-нибудь в угол и буду там умирать. К несчастью, судьба не дала мне своего угла, хоть небольшого; нет никакого гнезда, ни дворянского, ни птичьего, и я сам не знаю, куда я денусь…» Последний отголосок этого состояния видел и я, когда летом 1882 года в Дуббельне, ссылаясь на трудность приобретения и дороговизну ставшего редкостью «Обломова», я уговаривал его издать полное собрание своих сочинений. «Такой совет мне мог бы дать, — сказал мне, мрачно потупясь, Гончаров, — лишь недруг: разве вы хотите, чтобы меня стали обвинять в том, что я обокрал Тургенева?!» Мне стало ясно, что навязчивая идея завершила свой круг. После смерти Тургенева эта болезненная мнительность прошла. Гончаров перестал иносказательно говорить о Тургеневе и в отзывах стал отдавать ему справедливость. Так, уже через год после кончины последнего он писал почетному академику К. Р.: «Тургенев воспел и описал в «Записках охотника» русскую природу и деревенский быт, как никто», а в 1887 году, говоря о «безбрежном, неисчерпаемом океане поэзии», писал тому же лицу, что «в этот океан надо чутко всматриваться, и вслушиваться с замирающим сердцем, и заключать точные приметы поэзии в стих или прозу — это все равно: стоит вспомнить тургеневские «Стихотворения в прозе»».
Михаил Викторович Кирмалов:
Было время, когда после ссоры с Тургеневым Иван Александрович ожидал от него вызова на дуэль. «Ну что ж, надо будет принять вызов», — говорил он отцу.
Одоление «Обломова»
Иван Александрович Гончаров. Из мемуарной повести «Необыкновенная история»:
В 1848 году, и даже раньше, с 1847-го года у меня родился план «Обломова». Я свои планы набрасывал беспорядочно на бумаге, отмечая одним словом целую фразу, или накидывая легкий очерк сцены, записывал какое-нибудь удачное сравнение, иногда на полустранице тянулся сжатый очерк события, намек на характер и т. п. У меня накоплялись кучи таких листков и клочков, а роман писался в голове. Изредка я присаживался и писал, в неделю, в две, — две-три главы, потом опять оставлял и написал в 1850 году первую часть. Но в 1848 году, в «Иллюстрированном альманахе» при «Современнике», я уже поместил отрывок «Сон Обломова» и тогда же, по дурному своему обыкновению, всякому встречному и поперечному рассказывал, что замышляю, что пишу, и читал сплошь и рядом, кто ко мне придет, то, что уже написано, дополняя тем, что следует далее. Это делалось оттого, что просто не вмещалось во мне, не удерживалось богатство содержания, а еще более оттого, что я был крайне недоверчив к себе. «Не вздор ли я пишу? годится ли это? Не дичь ли?» — беспрестанно я мучал себя вопросами. <…> В Петербурге я и служил, и писал очень лениво и редко, пока все еще материалы обоих романов до 1852 года. В этом году, в октябре, я ушел на фрегате «Паллада» вокруг света. На море, кроме обязанностей секретаря при адмирале Путятине, еще учителя словесности и истории четверым гардемаринам, я работал только над путевыми записками, вышедшими потом в двух томах под названием «Фрегат Паллада». <…>
В 1856 году мне предложено было место цензора — и я должен был его принять. Я издавал тогда свои путевые записки, и это отвлекло меня от главных моих литературных трудов <…>.
Иван Александрович Гончаров. Из письма брату Н. А. Гончарову. Петербург, 15 (27) мая 1857 года: