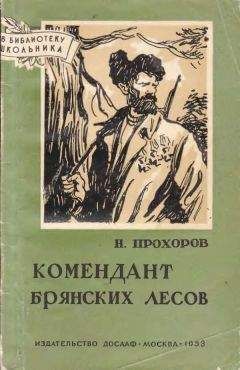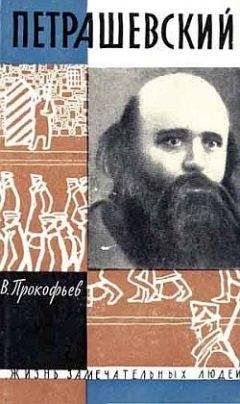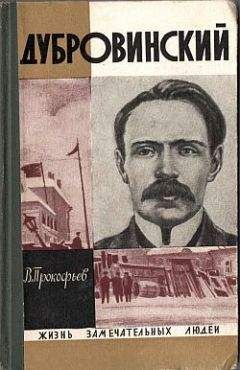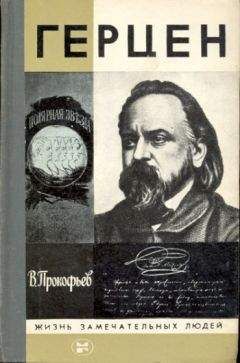Вадим Прокофьев - Степан Халтурин
Халтурин так похудел, осунулся, оброс бородой, что в дорогу не понадобилось и грима, хотя Желябов настаивал.
И вот снова Москва. Халтурин узнает улицы, по которым бродил, знакомясь с первопрестольной, вспоминаются и друзья, покинувшие его в этом городе. Горечь обиды прошла, недоумение останется на всю жизнь.
Пресня. Заброшенные, покосившиеся халупы, в которых живет трудовой люд, непролазная грязь, изредка крохотные чахлые садики и небольшие огороды. Невдалеке фабричные корпуса.
С трудом добрался Степан до квартиры старого рабочего Егора Петровича, жившего в маленьком домике со своей сестрой Агафьей Петровной. Был у Егорыча сын, да выделился, своей семьей живет, изредка забегая в отчий дом. А у Агафьи Петровны детей никогда и не было, зато в племяннике души не чаяла. Да вот, вырос, своя у него теперь дорога.
Степана приняли как родного. Комнату ему отвели и сразу в постель. Егорыча «свои люди» предупредили, кто его жилец. Но старик крепкий, не испугался, наоборот, за честь почел, что такого человека ему доверили. Агафья Петровна видела в Степане прежде всего своего, рабочего парня, больного, исхудавшего, и все нерастраченные материнские чувства перенесла на него.
Егор Петрович только покрякивал, но молчал, когда сестра все порядки в доме кверху ногами перевернула.
— Цигарок чтоб и духа не было да сапожищами не грохай по дому, сымай, когда в комнаты входишь!
Степан Николаевич сразу почувствовал себя в родной семье. С Егорычем поговорить одно удовольствие, много он на своем веку пережил, и воевал, и в тюрьме сидел, а фабрик сменил — и не сосчитать. Хотя вот уже лет пятнадцать, как пристроился на Комиссаровском заводе. Слесарил, теперь по старости думает в сторожа, если возьмут. И сын у него оказался «свой», через него-то Халтурина и пристроили у стариков. Они вне подозрения, Степан здесь в безопасности.
* * *Халтурин воспрянул духом. Опять он среди рабочих. Болен? Ничего, теперь он справится с болезнью и снова включится в революционную деятельность. Даже к лучшему, что он в Москве, — рабочих здесь не меньше, чем в Питере, а организации нет и не было. Ведь так и не удалось союзу создать свою «отрасль» в первопрестольной.
Весна клонилась к лету, вечера становились все теплей, ночи короче, и зелень, изумрудная зелень потемнела, сделалась гуще. «Чистая публика» покидала город, разъезжаясь по дачам, в имения, на курорты. Все чаще Егорыч, приходя со смены, жаловался на духоту и пыль в мастерской. Агафья Петровна приносила с базара первые свежие овощи — редис, зеленый лук. Здоровье Халтурина заметно улучшилось. Он реже кашлял, немного пополнел, вновь румянец стал робко пробиваться сквозь серую пелену щек.
После взрыва Зимнего наступило временное затишье. Исполнительный комитет напоминал о себе только листовками. Зато либералы заговорили громче. Председатель кабинета министров Лорис-Меликов затеял темные махинации, разыгрывая из себя сторонника конституции. Поговаривали, что он с согласия царя готовит ее проект. Земцы ликовали, летели адреса на высочайшее имя, банкеты следовали за банкетами. Правительству казалось, что народовольцы выдохлись, и только тревожные вести из деревень да непрекращающиеся стачки рабочих промышленных городов России омрачали настроение правящих верхов.
Халтурин стал выходить на улицу. Сначала сидел на скамеечке около дома, потом начал совершать недалекие прогулки. Его тянуло не в парки, а к заводским окраинам. Часто забредал Степан в трактиры, посидеть, послушать, разведать настроения.
Сперва Халтурина удивляли рабочие Москвы. Развиты мало, нет у них чувства собственного достоинства, да и зарабатывают они куда меньше. В Москве было очень много сезонников, смотревших на свою работу как на временное занятие — подработать, купить тройку, сапоги да «тальянку», и айда к себе в деревню, хребет на помещичьих отработках гнуть. Московские рабочие отличались неподвижностью, разве к себе в деревню на побывку съездят. По воскресеньям с утра забираются в чайную да и хлещут чай до одури.
Халтурин, еще почти никого не зная, зашел как-то в трактир закусить и встретился там с группой таких «чаевников». Были они столярами с Беккеровской фабрики роялей, наверное, недавно из деревни в город подались в поисках подработки. Вслушавшись, Степан не выдержал, вмешался в разговор. Сначала столяры отнеслись к нему недоверчиво, их смущало и пальто городского покроя, и «складная речь», и то, что Халтурин чай пил не с блюдца, как они, а из кружки, сахар клал прямо в кипяток, а они долго обсасывали кусочек, выпивали кружку, ставили ее на блюдце кверху донышком, а на него клали остаток сахара до следующей порции чаю. После каждой кружки два бородача обязательно крестились, поглядывая на угол трактирной комнаты, хотя икон там не было. Но скоро ледок растаял, признали в Степане своего, столяра. Кто ж другой так знает тонкости ремесла? Поинтересовались, где работал, а как услыхали, что в Питере, аж рты поразевали:
— Далече, однако, ты забрался. Поди, в Питере все как есть столяры в таких одеждах расхаживают, ну, словно баре какие?
Халтурин от души рассмеялся и стал рассказывать новым знакомым о житье-бытье питерских рабочих и не заметил, как разговор зашел уже не о заработках и харчах, а о взаимоотношениях между рабочими и хозяевами. Столяры стали жаловаться:
— У нас на Беккере мастер — царь и бог, слово скажешь, тут тебя и по шеям, а нос свой сует всюду. От него не скроешь ни заработка, ни, прости господи, исподних, если они на тебе еще есть.
— И ведь какой обычай завел, — разговорился столяр с большой окладистой бородой и черными от впитавшегося лака руками, — с каждой получки куражные ему подавай, забудешь, так прямо говорит: «Что ж ты, голубчик, забыл со мной поделиться?» Вот и попробуй, не дай — живо с фабрики вылетишь. А есть и такие, что с подходцем берут, с любезностями. Подходит к тебе в день получки, прикурить, коробок спичек просит. Ну, который новенький, тот чиркнет, да и опять к верстаку, ну и бувай здоров назавтра. А знающий коробок-то даст, а в нем целковый иль три даже, у кого какой счет.
Халтурин возмутился:
— В Питере за такое свои сживут с завода. Там, братцы, бывает и рабочие хозяев поколачивают. Да вы сами виноваты, за чаем дни просиживаете, друг от друга как за тридевять земель живете.
— И не говори, малый, — вмешался пожилой столяр, отодвигая кружку, — свой своему волк у нас. И до чего люди зверьем стали. Зазеваешься, ан с верстака резец иль стамеску, а то и пилу уволокут за милую душу. А кто видал это, так те стоят и ржут, как жеребцы какие. Ты вот к нам в праздник заходи, такое еще повидаешь! Сперва друг дружке бока намнут или ребра посчитают на кулачках, а потом в кабак иль в портерную зальются, ну и гуляй Емеля. А как вечер — по домам поползут, опять же драка, а кто не дерется, но силушку в себе могучую чует, так фонари иль тумбы сбивать пробует, есть и такие, что столб фонарный запросто рушат.