Анри Перрюшо - Поль Гоген
При первых встречах символистов с Гогеном, их если не покоробили, то, во всяком случае, озадачили его грубоватые манеры, резкость его суждений, его высокомерие, прямолинейность, цинизм, который он на себя напускал (особенно при посторонних), наконец, его подчеркнутая напыщенность. Даже для того, чтобы дать кому-нибудь прикурить, он делал широкий, величавый жест - "этак впору размахивать факелом"[116]. Мощь, которой от него веяло, подавляла символистов - люди неохотно мирятся с чужим превосходством.
Со своей стороны Гоген испытывал некоторое недоверие и презрение к "теоретикам-златоустам". Все эти школы и теории - детские игрушки, считал он. "Художник должен быть свободным, иначе он не художник...". На керамической вазе, подаренной Филижеру, он написал: "Да здравствует синтез!" - исказив слово "синтез" таким образом, чтобы оно рифмовалось со словом "foutaise", что означает "вздор". И теперь он посмеивался, слыша, как Верлен кричит: "Ну их, этих цимбалистов, надоели!" Но поскольку эти господа старались угодить Гогену - бог с ними, - "символизм так символизм!"
Тем не менее Гоген по-настоящему сдружился кое с кем из символистов, в частности с Шарлем Морисом, который сразу же начал восхищаться Гогеном. За два года до этого Морис в своем интересном очерке провозгласил гениальность Верлена, теперь он превозносил гений Гогена. Это была драгоценная поддержка, потому что с мнением пылкого эстета Мориса, от которого ждали крупных произведений, считались. Удивительная личность был этот литератор с пламенным слогом, который, в буквальном смысле слова, пьянел от собственного красноречия, больше чем от спиртного! "С головой пианиста-романтика на долговязом, изможденном теле" он ходил в кафе и в другие места, где собирались литераторы и художники, и неутомимо излагал им бесчисленные проекты, которыми поочередно загорался, выставляя перед аудиторией все их достоинства, причем, хотя все они так и оставались мечтами, ему начинало казаться, что он их уже осуществил. На эти дискуссии Морис тратил немногие свободные часы, которые оставались у него от платной работы, помогавшей ему кое-как сводить концы с концами и удовлетворять ненасытную любовь к женщинам.
Морис, которому Гоген рассказал о своем желании уехать из Франции, посоветовал художнику - поскольку на Шарлопена рассчитывать было нечего устроить выставку своих произведений с последующей продажей. Он обещал привести на нее покупателей - политических деятелей вроде Клемансо или бывшего директора Департамента изящных искусств, друга Мане, - Антонена Пруста. Гоген предпринял попытки сговориться с какой-нибудь галереей, но тщетно. Преемник Тео у Буссо и Валадона, Морис Жуаян, ценил живопись Гогена и пообещал ему свою поддержку, но, поскольку владельцы галереи враждебно относились к неофициальной живописи, ему было трудно взять на себя ответственность за подобную демонстрацию[117].
То, что символисты так благосклонно отнеслись к Гогену, что они избрали его "главой" символизма в живописи, вызвало враждебные чувства к нему со стороны некоторых людей. В частности, как это ни покажется странным на первый взгляд, со стороны Бернара, который как будто должен был бы радоваться возрастающей славе Гогена.
Когда недовольный собой Бернар впервые почувствовал мучительную тревогу за свое будущее, он изливался Гогену, забрасывая художника патетическими признаниями. Но теперь Гоген пошел в гору, и трагическое чувство собственного "бессилия" (как выражался сам Бернар) понемногу осложнилось или, если угодно, вытеснилось ревнивым недоверием к другу. Приветствуя в Гогене мэтра новой живописи, символисты не проявляли ни малейшего интереса к Бернару. Он негодовал, требуя своей доли успеха. Гогена, который хлопотал о выставке только собственных произведений, он считал предателем. "Чем больше я стараюсь написать что-то законченное, проработанное, тем больше я увязаю в чем-то антиутверждающем, прихожу к выхолощенности, к пустоте", - писал Бернар Гогену за год до этого. Теперь он пытался приуменьшить значение творческого краха, в котором признавался прежде[118], и компенсировать его, возвеличивая - как бы в противовес формуле Гёте, который говорил: "Твори образы, художник, не суесловь" - значение идей, слов, теорий. Вспоминая о своих с Гогеном ссорах в 1888 году в Понт-Авене и о том, с каким интересом отнесся Гоген к его "Бретонкам на лугу", Бернар совершенно забывал, как он сам восхищался Гогеном, с каким изумлением и почти что страхом признавал превосходство своего друга, и теперь заявлял, что все те заслуги, за которые символисты превозносят Гогена, принадлежат ему, Бернару. До знакомства с ним Гоген-де ничего не знал, был второсортным импрессионистом: "Мелкая фактура ткала цвет и напоминала Писсарро, а стиля почти никакого". Между тем, когда Гоген в 1888 году встретился с Бернаром, прошел уже год, как на Мартинике он написал свои первые полотна крупными цветовыми пятнами, по меньшей мере года два, как он делился с друзьями своими синтетическими поисками, три года, как в письме к Шуффу из Копенгагена он изложил основные принципы своего будущего искусства. Ничего не значит! Именно он, Бернар, несколькими словами, словно по волшебству, мгновенно и в корне изменил живопись Гогена. Когда биржевой маклер в 1881 году работал в Понтуазе рядом с Сезанном, Бернару было тринадцать лет. Ничего не значит! Именно он, Бернар, открыл Гогену глаза на достоинства живописи Сезанна. Гоген ему обязан всем. II Гоген ущемил его и ограбил.
Что можно было ответить на эти жалкие обвинения? Гоген пожимал плечами. В свою очередь он забывал, что когда-то говорил о Бернаре: "Обратите внимание на молодого Бернара, это личность", забывал о своих похвалах, о том, как по-братски поддерживал и ласково ободрял молодого художника. Он даже не признавал теперь, что мнение Бернара было ему не безразлично. Их дружбе конец. На Таити они вместе не поедут. Придется Гогену смириться с этим - если он поедет, он поедет один, потому что и Мейер де Хаан не сможет быть его спутником: он заболел и должен вернуться в Голландию[119].
Был человек, весьма сочувственно прислушивавшийся к жалобам Бернара, Шуффенекер. И в самом деле, Шуффу становилось все труднее выносить тираническую и оскорбительную дружбу Гогена. Еще весной, в конце своего пребывания в Париже, Гогену пришлось перебраться в средней руки гостиницу на улице Деламбр. А вернувшись в Париж, он поселился в доме академии Коларосси, на улице Гранд-Шомьер, 10, хотя работал по-прежнему в мастерской Шуффа. Шуфф терпел его бесцеремонность - он терпел ее всегда, всегда мирился с тем, что Гоген ведет себя у него, как хозяин, которому все всё должны. Но он затаил на Гогена обиду. Однажды, придя в мастерскую на улице Дюран-Клея, Жан Долан похвалил картину добряка Шуффа. Гоген посмотрел на писателя так, что тот подумал: "Кажется, я совершил непоправимую бестактность"[120].


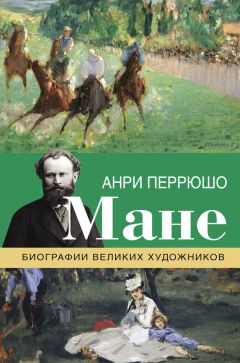

![Игорь Богданов - Контрабанда из созвездия Эридана[журнальный вариант]](/uploads/posts/books/67403/67403.jpg)