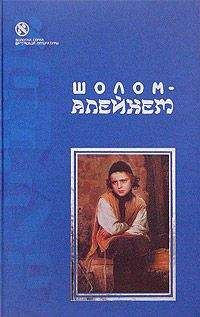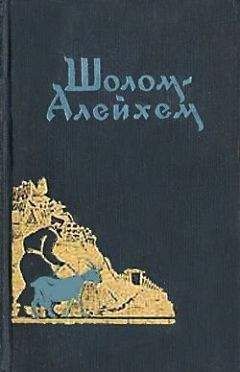Лев Друскин - Спасенная книга. Воспоминания ленинградского поэта.
И — слаб человек! — невольный стыдный огонек тщеславия:
"А будь жива Марина Ивановна, она бы меня, наверное, тоже перекрестила".
ПЕТЕРБУРЖЕНКА –
Молодой человек с надеждой спрашивает:
— Мария Степановна, вы помните меня? Я был у вас тогда-то и тогда-то.
— Нет, милый, не помню. Но какое это имеет значение? Все остается во мне.
Она хитрющая — актриса и притворщица. Мы приехали второй раз. Лиля спешит к ней.
— Мария Степановна, дорогая, здравствуйте!
Она вглядывается и произносит:
— Я вас узнала — вы петербурженка.
— Мария Степановна, какая же я петербурженка? Я Лиля Друскина.
— Лиличка! Ох я, старая дура! Как вы? Как Левушка? Вечером проговаривается:
А я с утра знала, что вы приедете. Мне домработница сказала.
311
ЧЕРТОЧКИ –
— Совсем ослепла! Лиличка, деточка, посмотрите: нет ли на горизонте кораблей?
— Есть.
— А я вижу только черточки.
— Так и я, Мария Степановна, вижу только черточки.
В другой раз:
— А это не Левушку везли сейчас к пляжу?
— Левушку.
— Спасибо, деточка, а то я уже ничего не вижу.
ДОМ –
С утра Мария Степановна начинает обход своих владений. Со всеми вещами она накоротке, и скульптуру египетской царицы, матери Нефертити, называет душечка Таиах.
Дом изумительный — с моря он напоминает корабль. Волошин строил его сам, по собственным чертежам.
Но, рассказывая об этом, Мария Степановна иногда увлекается и уверяет, что Максимилиану Александровичу помогал ле Корбюзье. С француза Корбюзье разговор перескакивает на немцев.
— Они появились в дверях мастерской с автоматами, а раскинула руки вот так и сказала:
— Не пущу!
Я смотрю на ее раскинутые руки и понимаю: все это правда.
И неважно, что немцев то двое, то пятеро. Сколько бы их ни было, они спасовали перед ее бесстрашием и не переступили порога.
Святыня осталась нетронутой.
Кукушка в столовой кукует восемь раз.
И новый фантастический поворот.
— Что же это я заболталась? Уже двадцать часов. Пора слушать Би-Би-Си!
312
Какое невероятное смешение стилей и времен, суетности и вечности. Просто завидно!
ОТОМСТИЛ –
Даже «столпы» Союза писателей считали хорошим тоном претить Марию Степановну. Но язычка ее побаивались. Вот она разговаривает с Евтушенко:
— Женя, я давно знаю и люблю тебя, но ты дурак.
И сердито застучав по столу:
— Не спорь, не спорь! Мне лучше видно — ты дурак!
А вот несет свое брюхо по ступенькам Сергей Наровчатов.
И она качает головой.
— Большим человеком стал, Сережа. Весь мир объездил. А всё о тебе плохое говорят.
Тот, угрюмо:
— Знаю.
Но обиделся. И — мелкий человек — отомстил тоже мелко. Когда, вскоре после смерти Марии Степановны, в малой серии Библиотеки поэта вышел наконец томик Волошина (не увидела, не погладила!), в предисловии Наровчатова о ней не было ни единого слова.
ВЕЧЕРА –
Дом жил своей необыкновенно трогательной, слегка пародийной жизнью.
Ну, конечно, не тот шик. Конечно, поет уже не Обухова, а Шергина(? — неразб. Д.Т.)
Но обаяние этих вечеров не преходяще!
313
А ЧТО МНЕ МАРИНА? –
Читает, опекаемый домом, ужасный молодой поэт. Все хвалят. Я взрываюсь.
— Анастасия Ивановна, как не стыдно вам, сестре Марии Ивановны, хвалить такие стихи?
Гордо вскидывает голову:
— А что мне Марина? Я сама по себе!
МАРИЯ СТЕПАНОВНА –
Плачет.
Обокрали. Украли из тайника первое издание Волошина, единственный экземпляр. О тайнике знали только самые близкие люди.
— Молю Бога, чтобы воровкой оказалась домработница! Но она ведь понимает, что это не так.
Мы и сами-то с горечью видим: в библиотеке книги, стоявшие в шестьдесят восьмом году дружно и плотно, покосились, навалились друг на друга. Но даже и в этом положении зияют среди них скорбные щели.
В НАШЕЙ СТОЛОВОЙ –
Осенью Дом творчества сдают в аренду шахтерам — они оккупируют всю территорию.
Писателей остается немного — человек двадцать.
Я лежал в прелестном месте, высоко над морем. Но в пяти шагах находился винный ларек и пришлось переменить скамейку.
Это был какой-то ужас! Каждый шахтер считал свой долгом "угостить меня". Они подсаживались, совали стакан — как не выпить с инвалидом? И спрашивали: "Ведь мы интересны вам, правда? Писателям всегда интересно писать про рабочих".
314
Пo вечерам коттеджи шатались от пьяных голосов. Гремела песня: "В бой за родину! В бой за Сталина!" Женщинам выходить в сад не рекомендовалось, во всяком случае первую неделю — пока выпивохи не спустят деньги. Я спросил у пожилого усатого дядечки:
— Вы здесь с женой?
Он удивился:
— Да вы что? Кто же ездит в Тулу со своим самоваром?
Было и такое:
Трое шахтеров, подвыпив, вваливаются к Марии Степановне, в мастерскую Волошина. Разглядывают картины.
— А почему это висит здесь?
— Как почему? Это мое.
Тут ничего вашего нет — все государственное.
— Где же это, по-вашему, должно висеть?
И безапелляционный ответ:
— У нас, в нашей столовой.
МАЛЬЧИК В ТЮРБАНЕ –
Лежу на потертом продавленном диване в комнате Марии Степановны. А она сидит в деревянном кресле, работы Волошина, как всегда подогнув под себя одну ногу.
Не вижу ни пыли, ни паутины — так интересно. Стен практически нет — картины и акварели.
— Мария Степановна, а кто этот мальчик в тюрбане?
Смеется. Кладет руку себе на грудь.
— Этот мальчик — ваш покорный слуга.
ВТОРАЯ ВДОВА-
Теплой полночью в горах Крыма
Поднимается вдова Грина,
315
И готовая вот-вот рухнуть,
Собирает по углам рухлядь.
Задыхаясь, бормоча, горбясь,
Опускается на скарб скорбный.
Ждет, рукою опершись на пол:
Ах, как страшно ей опять по этапу!
Удержите ее вы хоть ночами…
Все ей слышится: "На выход!.. С вещами!.."
Ужас давит, как песок засыпает…
Скоро восемьдесят ей… засыпает…
И рассвет, чтоб не томилась часами,
К ней под черными плывет парусами.
Так доживала свои последние годы — в ужасе и нищете — Нина Николаевна Грин, его подруга, его любимая жена, его вдова — на ее руках он и умер, в Старом Крыму, неподалеку от Коктебеля. О ней рассказал мне Петр Никитич — чудак, человек прекрасной души, отсидевший более двадцати лет, присматривавший за ней по доброте. Потом ему это запретили.
А книги Грина издавались стотысячными тиражами, по всей стране проходили молодежные фестивали "Алые паруса".