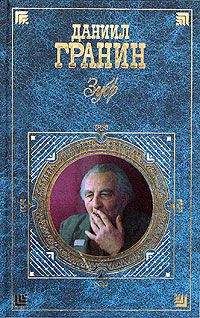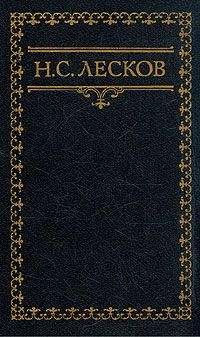Николай Тимофеев-Ресовский - Воспоминания
Это я рассказываю про свою контору «косметическую». Официальное название: Институт медико-биологических проблем Министерства здравоохранения. Совершенно секретное название, чтобы никому не было известно, чем там занимаются. Но можно было что угодно написать, потому что там все равно ничем не занимаются, стало быть и засекречивать нечего. Ужас!
Вы не представляете себе вообще, что делается у вас в Москве. Это черт знает что! Институт физики Академии наук. Мне по долгу службы несколько месяцев тому назад в руки попалось штатное расписание, я в какой-то комиссии участвовал: семь тысяч восемьсот единиц! Вы представляете себе?! В семеновском институте четыре с половиной тысячи единиц. В нашей «косметической» конторе сейчас к трем тысячам подкатывает. Есть новая, новее нашей, контора, в которой совершенно неизвестно, что делается. Называется Институт биотехники. Была идея разводить на нефти дрожжи для прокормления голодающих индусов, которые за эти дрожжи будут рупии платить. Скоро, возможно, и нас переведут на дрожжи, коли так пойдет дальше. А пока что вот мы, французы, англичане и еще кто-то, есть же такие боголюбивые люди, которые заботятся о голодающих индусах... В этой конторе, основанной три, четыре года тому назад, уже перевалило за две тысячи совершенных паразитов, понимаете ли? Это ужас, ужас, ужас!
Но вернемся в Германию. Там всего этого не было. Был очень простой, скучный порядок: начальство давало деньги, их надо было тратить разумно, потому что тех, кто тратил неразумно, выгоняли со службы. Значит те, кто хозяйствовал научно, были люди разумные, по-разумному тратили деньги, которые получали. Расскажу вам в качестве примера, как иногда деньги на научные исследования выдавались. В Париже сидели три представителя Рокфеллеровского фонда: Тинбель, крупный очень физик, затем Хэмсон, тоже крупный экспериментальный генетик, и какой-то химик. Я забыл его фамилию, потому что с ним никогда не имел никаких дел. В один прекрасный день звонит мне из Берлина по телефону Хэмсон, что вот они с Тинбелем хотят ко мне заехать. Я говорю: «Заезжайте. У вас что, свой автомобиль?» — «Да, конечно, на машине.» — «Ну, валяйте, приезжайте». Приехали два дяденьки, я им показал свою скромную лабораторию, все, что там было интересного, похвастался своей оранжереей. Они поохали, поахали. Действительно, оранжерея была исключительная, даже, пожалуй, единственная в своем роде для таких экспериментальных целей. К тому времени мы сами в маленькой мастерской соорудили еще термостат замечательный, в котором было восемь, по-моему, камер: от +5° до +40°. Причем регулировалась не только температура, но и влажность относительная. Регуляторы влажности мы сделали очень просто. За полторы марки можно было купить обыкновенные волосяные гигрометры. Мы десяток купили, разбили стекла и из них сделали терморегуляторы. Остроумным простеньким способом. Но у нас невозможно же купить десять гигрометров, да еще сломать. «Посажё» произойдет.
Так вoт. Приехали они, поболтали мы, позавтракали у нас дома. Потом они и говорят: «Вам, наверное, деньги нужны?» Я говорю: «Деньги? Есть у меня бюджет. Хватает денег». Они говорят: «Ну, все ученые всегда требуют денег, всегда нужны деньги». Я говорю: «Ну, пригодятся, ежели... А что, у вас много денег?» Они: «Есть, на то мы и Рокфеллеровский фонд. Мы вам можем дать, ну, пару тыщенок долларов. Надо только придумать на что. Знаете, вот нам особенно нравятся в ваших оранжереях жучьи работы по экспериментальной эволюции. Ведь это, в сущности, экспериментальное изучение эволюции». Я говорю: «Да, так это и задумано нами было еще в Москве». Они говорят: «Так ведь это совершенно новая штука. Мы так и устроим. На совершенно новое экспериментальное изучение эволюции мы вам подкинем. Ну, сколько?» «Я без денег обойдусь,— отвечаю,— а установка у меня такая: чем меньше денег, тем лучше, чем больше денег, тем больше ответственности. А для человека это самое скверное — ответственность, отвечать перед кем-то за что-то. Это всегда неприятно. А ежели денег я, скажем, не получаю от вас, то мне на вас наплевать с высокой башни. А если я от вас деньги буду получать, то должен буду стараться какие-то угодные вам науки разводить».
Они говорят: «Нет, мы вовсе не такая организация. У нас деньги для поддержания развития науки. Вот вашу эту экспериментальную эволюцию мы хотим поддержать и по возможности развить. Раз у вас такое редкостное умонастроение, что вы против денег, то не берите много. Возьмите тысячи три-четыре в год. Это пригодится всегда. Вдруг понадобится лишних парочку дорогих каких-нибудь цейсовских ультрафиолетовых микроскопов, или какая-нибудь другая вещь понадобится, или появится какой-нибудь симпатичный и умственный молодой человек, а у вас как раз нету денег на научного сотрудника. Вот вы и будете платить. Ведь мы-то деньги даем, а на что их тратить, это ваше собачье дело. Хотите — берите себе ассистента, хотите — микроскоп покупайте. Что хотите». Я говорю: «Ну ладно. Что для этого надо?» — «А ничего не надо». Вытащил какую-то книжицу с квиточками и один мне дал. «А дубликат, значит, у нас останется. На квиточке вы распишетесь и мы распишемся. Начнем с первого января. Хотите, разом мы вам все деньги пришлем или как-нибудь частями?» Я говорю: «Лучше поквартально. Еще израсходуешь все разом». И вот договорились мы на пять тысяч в год. Ежеквартально тысяча двести пятьдесят долларов на мой банковский счет переводились с первого января, я уж не помню, какого года — 32-го или 31-го.
Я им сказал, что, знаете, это даже имеет, оказывается, свои хорошие стороны: в пределах пяти тысяч долларов я буду независимым барином по отношению к Kaiser Wilhelm Gesellschaft. Я могу с ними поругаться, послать их к чертовой бабушке. Так? Они могут обидеться и постараться сократить мне количество денег на науку. А мне наплевать. У меня вот рокфеллеровские доллары тогда есть. Они говорят: «Правильно. Вот так и надо делать. Для того чтобы чиновников держать в аккурате». Вот так это просто делалось. Чайку выпили — пять тысяч долларов. Так что все очень было хорошо и мило.
Поэтому, когда меня иногда хвалят за то, что я там за 30-е годы много наработал всяких вещей, то хвалить меня не за что. Я из условий, где надо было придумывать, как обыкновенно прожить и как обыкновенно работать, попал в условия, где обыкновенно жить и работать — была норма, не нужно было ничего придумывать. Поэтому нашему брату там было очень вольготно. Ну, туземцы, конечно, у них были время от времени заботы, они стонали, потому что они другой жизни-то не знали, что человек не свинья, все может вынести. И поэтому иногда тоже были недовольны жизнью. А мы посмеивались: «Ишь ты, сукины дети, избаловались как».