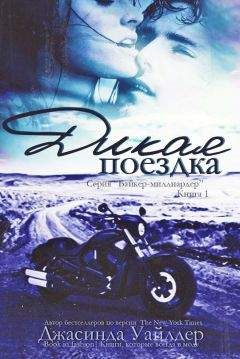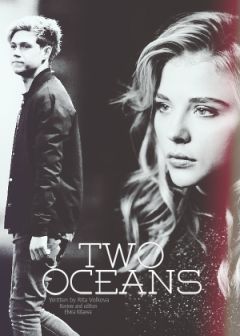Курцио Малапарти - Репортажи с переднего края. Записки итальянского военного корреспондента о событиях на Восточном фронте. 1941–1943
Глава 25
Кровь рабочих
Белоостров, апрель
Поздно вечером я вернулся из Териоки в Александровку и отправился спать в домик, где располагался штаб войск на этом участке фронта, когда вдруг со стороны Ленинграда послышался глухой грохот яростного артиллерийского обстрела. Было два часа ночи. Я вскочил со своей походной кровати и вышел наружу.
Непогода с сильным ветром прошла, небо снова было чистым, и первые лучи лунного снега упали на широкие леса Карелии, на сияющий снежный ковер. Все небо над юго-западными пригородами города сияло яркими огнями. Особенно активно обстреливался район близ Урицка[77], где расположен Путиловский завод (с 1934 г. Кировский), Металлургический институт имени 25 октября и завод имени Ворошилова. Из окопов за Александровкой проходящий по берегу моря участок фронта[78] под Териоки, расположенный правее от нас, прямо напротив Кронштадта (отсюда до него всего несколько километров птичьего полета), не был виден, так как его скрывала небольшая возвышенность, на которой стояли жилые дома Александровки. Но небо над городом было насыщенного медного цвета, испещренное длинными черными вертикальными полосами – несомненно, это были столбы дыма.
Дальнобойная артиллерия Балтийского флота (в ее громком хоре явственно слышались голоса тяжелых орудий двух больших советских линкоров – «Марат» и «Октябрьская революция») яростно отвечала на огонь немецких тяжелых орудий. И этот хор с каждой минутой становился все более интенсивным и ожесточенным. На небе цвета расплавленной меди ясно были видны купола церкви в Александровке. Это был величественный вид, он впечатлял той дикой, обнаженной жестокой красотой, которая становилась еще более явной на фоне глубокого молчания, повисшего над финскими окопами, что являло яркий контраст общей картине.
Солдаты бесшумно двигались вокруг меня, переговариваясь между собой тихими голосами. Я слышал только легкое шуршание лыж, скользивших по снегу, ржание укрытых в лесу лошадей, резкий лязг затворов – финские солдаты заряжали свое оружие в готовности моментально открыть заградительный огонь, если противник бросится в атаку. Но советские позиции в нескольких сотнях шагов перед нами тоже погрузились в глубокое молчание.
Ни одного голоса, ни одного винтовочного выстрела не нарушали этот застывший покой. Не было слышно даже той причудливой смеси шумов, резких металлических звуков (лязг ружейных прикладов о консервные банки, коробки с патронами или другие предметы из железа), которые говорят о беспокойстве, напряженном ожидании, последних приготовлениях к броску вперед.
Несомненно, советские солдаты в этот момент тоже смотрели из окопов назад, на город, пристально наблюдая за ужасающим зрелищем бомбардировки. Время от времени над районом Кировского завода поднимались ввысь облака красных сполохов, похожие на гигантские стаи светлячков, и иногда высоко в небо вдруг вздымались столбы дыма, чтобы сразу же, через мгновение, упасть обратно, как огромные потоки воды.
Обстрел города даже приблизительно нельзя ни с чем спутать, такое влияние он оказывал на всех, кто находится в окопах. Несмотря на то что городская застройка представляет собой мертвую инертную массу, бомбардировка, как кажется, способна насильно вдохнуть в нее грозную жизнь. Грохот разрывов внутри стен многоэтажных зданий и небольших особняков, на улицах, на опустевших площадях отдавался эхом и непрекращающимся пронзительным ужасающим воем. Можно подумать, что это кричали от страха сами дома, извиваясь в странном танце посреди огня, прежде чем наконец обрушиться в виде объятых пламенем развалин.
В пассаже, описывающем якобы характерные черты Каструччио Кастракане, синьора Лукки, появившемся почти в конце книги Макиавелли «Жизнь Каструччио», есть образ, который позднее приписывался Пиранделло. Это образ «домов, что должны от ужаса броситься прочь из дверей, если они почувствуют приближение неминуемого землетрясения». В моем все еще дремлющем сознании, находящемся во власти увиденного, вид зданий и заводов района близ Урицка, людей, выскакивающих в панике из дверей – полуобнаженных, с волосами, которые треплет ураган дыма и тлеющих углей, застывшими глазами, распахнутыми ртами и руками, прижатыми ко лбу, посреди грохота взрывов, пурпурных отражений пламени, наложился на вид русских солдат, неподвижно застывших в своих окопах в нескольких сотнях шагов от нашей передовой, лицами к подвергающемуся ужасной пытке городу.
Для нас и тех, кто оказался в плену огромной клетки осады, для тех, кто, подобно нам, мог наблюдать за трагедией со стороны, агония Ленинграда была не больше чем просто ужасным зрелищем. Просто зрелищем и ничем иным. Трагедия города была так велика и принимала настолько сверхчеловеческий размах, что каждый чувствовал, что он не может никак участвовать в ней, разве что наблюдать за ее ходом собственными глазами. Не было чувств христианина, не было жалости, сопереживания, достаточно большого и глубокого, чтобы осознать ее масштабы. Она приобретала характер некоторых сцен из Эсхила или Шекспира: перед зрителем представали сцены, ужасающие настолько, что они казались выходящими за пределы сферы природы или человечества, чуждыми самой истории человеческих отношений.
И крайне необычно было то, как коммунисты, которые напрямую участвовали в этой трагедии, которые жили в ней, оказались способны соотносить ее с нормальным человеческим опытом, с положениями своей доктрины, своей логики, со своими жизнями. Ведь из заявлений всех пленных и перебежчиков (а среди них было некоторое количество испанских коммунистов, которые после краха красной Испании бежали в Россию, а несколько дней назад попали в плен на этом участке фронта) можно было выделить один неоспоримый факт: трагедия Ленинграда, с точки зрения коммуниста, являлась абсолютно естественным и логичным эпизодом классовой борьбы, в которой все с жесткой решимостью играли свою роль, не испытывая при этом ни малейшего чувства отвращения.
Меня всегда очень интересовал созданный коммунизмом тип человека. Во время своей поездки в Советскую Россию меня больше всего поразили не социальные и общественные достижения, не столько внешняя сторона этого коллективного общества, а его внутренние духовные качества, новый «тип человека», «человека-машины», эволюционировавшего за двадцать лет марксистской дисциплины, движения стахановцев, суровости ленинизма. Меня поразила моральная жестокость коммунистов, их чрезмерная увлеченность теорией, их пренебрежение болью и смертью. (Разумеется, я говорю о подлинных и последовательных коммунистах, а не о том многочисленном классе партийных и профсоюзных функционеров, государственных служащих, сотрудниках промышленных и сельскохозяйственных предприятий, которых тоже много живет в России и которые под маской новых названий, новых методов прячут собственные слабости, эгоизм, крючкотворство – словом, все то, что характеризуется словом «обломовщина» или термином «мелкая буржуазия».)