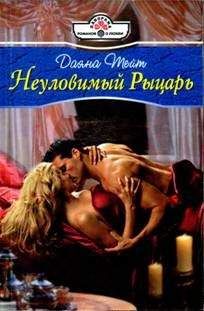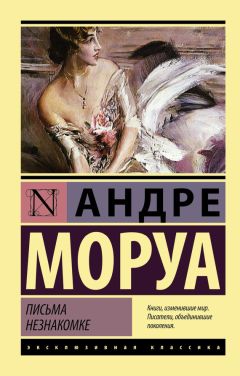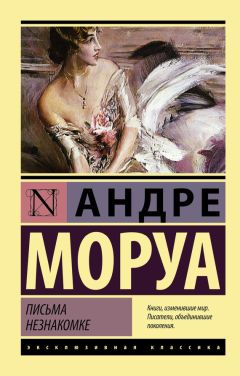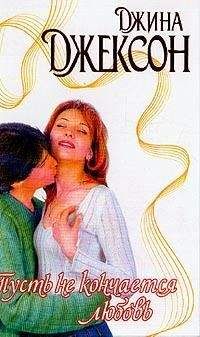Андре Моруа - В поисках Марселя Пруста
Третий случай: Но обычно болезнь развивается так, как ее описывает Пруст в первый раз по поводу Свана и Одетты, во второй - Рассказчика и Жильберты, в третий - Рассказчика и Альбертины. Вот что он тогда наблюдает: ревность до самого конца неотделима от любви, сначала потому что любовник прекрасно знает, что сам неверен (в намерении, по крайней мере) и, следовательно, должен быть готов к тому, чтобы и у другой найти эту же слабость; затем потому что его требования лишь возрастают вместе с его успехами. Мы начинали с того, что хотели добиться хотя бы беглого внимания понравившейся нам женщины. Снискав его, мы захотели улыбки, нежных слов, поцелуя. Преодолев эти ступени любви, мы возжелали обладания; а как только и оно нам предоставлено, мы желаем, чтобы оно стало абсолютным.
Ничто не может успокоить ревнивца, потому что ревность, недуг исключительно умственный, рождается из неведения мыслей и поступков любимого существа - вот почему, вопреки всякой логике, случаются весьма странные отклонения и кто-то соглашается быть обманутым, лишь бы ему об этом сказали. Что до других, то они могут успокоиться, лишь удерживая любимую женщину в настоящем рабстве. Рассказчик в конце концов сделает Альбертину пленницей, но даже и тогда не сумеет свести к нулю поле неопределенности. Любовные интриги бывают даже в гареме, а решетки в любом случае не дают власти над мыслями. "Одно из свойств ревности состоит в том, что она открывает нам, насколько реальность внешних фактов и движения души являются чем-то неизвестным, потакающим тысяче домыслов..." Сама тюрьма, стало быть, не успокаивает. Рассказчик так же ревнив к прошлому Альбертины, как и к ее настоящему или будущему: "Ее прошлое - неудачное выражение, потому что для ревности нет ни прошлого, ни будущего, и то, что она себе воображает, это всегда настоящее..."
Время от времени подозрения рассеиваются: "Приветливость, которую проявляет наша подруга, нас успокаивает, но тогда в нашу память возвращается какое-нибудь забытое слово. Нам сказали, что в наслаждении она просто огонь, однако мы сами знали только спокойствие; мы пытаемся представить себе, каким было это неистовство с другими; мы чувствуем, как мало значим для нее; замечаем, когда говорим с нею, ее скучающий вид, ностальгию, грусть; замечаем, словно черноту неба, что при нас она надевает платья, которыми пренебрегает, приберегая для других те, в которых поначалу угождала нам. Если же, напротив, она нежна, то какая радость на миг!.. Потом чувство, что мы ей надоедаем, возвращается... Таково кружение огней ревности..."
Нет ничего символичнее, чем восхитительная страница, где Рассказчик смотрит, как спит его любовница. Сон этого ума, в котором его все тревожит, приносит ему своего рода успокоение, и в некоторой мере осуществляет возможность счастливой любви:
"Оставшись один, я мог думать о ней, но мне ее недоставало, я не владел ею. Когда она была рядом, я с ней говорил, но слишком отсутствовал в себе самом, чтобы думать. Когда же она спала, мне не надо было говорить с ней, я знал, что она больше не смотрит на меня, и не нуждался в том, чтобы жить на поверхности самого себя. Закрывая глаза, теряя сознание, Альбертина сбрасывала одно за другим различные человеческие свойства, которые обманывали меня с того дня, как я с ней познакомился. Теперь она жила лишь бессознательной жизнью растений, деревьев, жизнью, более отличной от моей, более чуждой, но которая, тем не менее, принадлежала мне гораздо больше. Ее Я уже не ускользало поминутно, как во время наших бесед, через лазейки невысказанных мыслей и взгляда. Она возвращала себе все, чем была вовне, она укрылась, замкнулась, сосредоточилась в своем теле. Мне казалось, что не спуская с нее глаз, не выпуская из объятий, я владею ею безраздельно, чего не бывало, когда она бодрствовала. Ее жизнь покорялась мне, источая свое легкое дыхание. Я вслушивался в это лепечущее, таинственное дуновение, ласковое, как морской ветерок, волшебное, как лунный свет, которое и было ее сном. Пока он длился, я мог грезить о ней, и при этом смотреть на нее, а когда сон становился глубже, коснуться ее, поцеловать. То, что я испытывал тогда, было любовью к чему-то столь чистому, столь нематериальному в своей чувственности, столь таинственному, словно предо мною было неодушевленное создание, краса природы..."
Но увы! Любимые нами женщины не могут все время спать, и недуг долго остается без лекарства. "Я называю тут любовью взаимную пытку", - говорит Пруст. Сама смерть не излечивает ревнивого любовника. Он продолжает вглядываться в прошлое, которое все глубже и глубже погружается во мрак могилы, и станет темой всей первой половины "Пропавшей Альбертины".
ПЕРЕБОИ ЧУВСТВТаким образом, разлука и даже сама смерть не излечивают влюбленного. Но, к счастью, память - не постоянно действующая сила, и после долгой разлуки забвение дает нам, наконец, душевную пустоту, необходимую для нашего ума, который обретает в ней свои силы. "Забвение - мощное орудие приспособления к действительности, потому что постепенно разрушает в нас уцелевшее прошлое, которое находится с ним в постоянном противоречии..." Марсель мог бы догадаться, что однажды разлюбит Альбертину. Поскольку любимое им существо не было реальным человеком, но лишь внутренним образом, фрагментом мысли самого Марселя, то любовь могла в продолжение нескольких месяцев, или, в самых упорных случаях, нескольких лет, выжить в его присутствии; но, не имея никакой поддержки вне себя, образ должен был однажды, как и любое воображаемое создание, оказаться негодным к употреблению, замещенным; и в тот день все, что привязывало его к воспоминанию об Альбертине, перестало существовать. Нет безутешных любовников кроме тех, что не хотят утешиться и делают из своей боли культ, быть может, это способ бегства. В момент смерти любимого существа его комната, его одежда превращаются в драгоценные фетиши, за которые мы в отчаянии цепляемся; но придет время, когда мы отдадим комнату кому-нибудь чужому, даже не обратив на это внимания. "Ибо к помутнению памяти добавляются перебои чувств". Любимые существа умирают дважды: первый раз телесной смертью, которая поражает лишь их самих, но они продолжают жить в нашем сердце; второй раз, когда волна забвения поглотит и память о них.
Это не значит, что мы стали неспособны любить, но наше желание, всегда безличное по своей природе, устремляется к новым существам, которых мы тоже поочередно примем "за абсолютный предел, за которым никакое счастье отныне невозможно".[170] Рассказчику неоднократно казалось, что одно-единственное существо заполняет собой весь мир: его бабушка, мать, Жильберта Сван, герцогиня Германтская, Альбертина Симоне. Всякий раз он следовал одним и тем же мучительным путем от восхищения к ревности; однако время всякий раз также делало свою работу, и наступало забвение. Потому что мы любим вымышленные образы, которых сотворила или, по крайней мере, приукрасила сила поэтического воображения, верившего в свою любовь к ним; но их легко также лишить созданного прожектором очарования, ярких сценических красок: время и безразличие приводят к тому, что мы вдруг видим любимых нами без всяких прикрас. Марсель замечает эгоизм Жильберты, черствость герцогини Германтской, заурядность Альбертины. У них отбирают роль, которая освобождается для новой комедиантки - помоложе или просто больше обласканной обстоятельствами - она не замедлит объявиться в тот самый момент, когда понадобится нам.