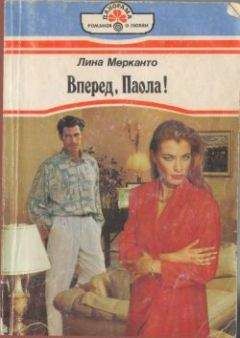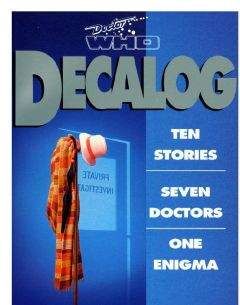Тарковские. Отец и сын в зеркале судьбы - Педиконе Паола
Размышляя над методами работы Андрея Тарковского, невольно вспоминаешь Пастернака:
Цель творчества – самоотдача, А не шумиха, не успех…
Тарковский умел не только сконцентрировать все душевные силы на образном постижении мира, но и сделать своими сообщниками всех, кто был причастен к его кинематографу, превращая творческий процесс в чудотворство.
Знаменитый дирижер Клаудио Аббадо, работавший с Андреем над постановкой оперы «Борис Годунов» в «Ковент Гарден», восторгался:
Да, таких режиссеров, как Тарковский, я не видел. Например, еще на первой репетиции он сказал:
– Сыграй-ка эту сцену музыкально.
Он никогда не говорил: «Ты должен то, ты должен это». Я спросил:
– Какая позиция?
– Нет, я хочу сначала послушать…
Ну, мы сделали музыкально. И тогда он очень медленно сказал:
– Так, так и так…
А на следующий день сделал все по-другому. Всегда изменял, и всегда получалось лучше. Он почти все импровизировал. Но всегда с совершенно ясной идеей. Конечно, мы много говорили с ним… Например, эта идея насчет Бориса. Он спит на карте России, а дети играют… а другим нельзя… в Россию. И Шуйскому тоже… и я нахожу, это было в самом деле гениально. Эту идею мы обсудили, это должно было остаться и для фильма. И другая идея, к примеру… во второй картине с Пименом и Лжедмитрием… прекрасно, музыкально, но скучно, потому что совсем не подходит… там только два человека, которые говорят или поют. А он сделал нечто невероятное, прекрасное. Я с самого начала говорил ему – это самая опасная сцена, ты должен что-нибудь найти, и он много дней раздумывал и нашел. Жаль, что кинокамеры не было в тот момент. Он велел медленно затемнять… на сцене мало движения… а публика не поняла, в чем дело… потом Пимен вдруг рассказывает… царь убил всех… все, все мертвы. Потом медленно светлеет, и видно всех убитых, в крови… и виден маленький Димитрий, он тоже убит. Мне кажется, это было гениально, эта вот идея. Это был такой человек… и потом действительно он каждую минуту спрашивал:
– Это ложится под музыку? Все в порядке с музыкой?
Он преклонялся перед музыкой, а это, к сожалению, редко бывает у режиссера.
Самое высокое искусство
В кинематографе Тарковского музыка – один из трех китов (два других – живопись и слово). Музыка была для Андрея не только катализатором для усиления эмоционального воздействия изобразительного ряда, но и средством для обозначения взаимосвязи киноискусства и культуры в целом.
Любовь Андрея к музыке – издалека, из детства. В кинематограф он пришел не сразу, а после долгих и мучительных поисков средств для творческого самовыражения. В 1983 году, выступая в США, на вопрос одного из зрителей: «О чем стоит думать?» – Андрей привел целый ряд «вечных», «проклятых» вопросов: «Зачем я существую? Зачем я был призван к жизни? Каково мое место в космосе? Какая роль мне уготована?» И в заключение сказал: «А когда человек найдет ответы на эти вопросы, то нужно смиренно выполнять свое предназначение».
Андрей, входя в «большую» жизнь, решил поначалу, что его предназначение – музыка. Вернее, за него решила мать. Для этого было как минимум одно серьезное основание – абсолютный слух. Еще в детстве он ходил к соседям, жившим наверху, брать уроки музыки. Когда мальчику исполнилось 7 лет, мать записала его в музыкальную школу. И первое время он достаточно прилежно посещал занятия, но затем учебу забросил. Своего фортепиано Тарковские не имели (дорого, да и негде поставить), а пользоваться для многочасовых упражнений инструментом соседей, в конце концов, было неловко.
Татьяна Высоцкая, подруга юности Андрея, познакомившаяся с ним в детской туберкулезной больнице, вспоминает:
В больнице все время до обеда у нас было занято лечебными процедурами, зато весь вечер был в нашем распоряжении. И вот в один из таких вечеров я услышала громкие звуки рояля. Кто-то играл «Неаполитанский танец» из «Лебединого озера».
Я вышла из палаты и пошла в зал, где стоял рояль и откуда слышались знакомые звуки Чайковского. Это была огромная гостиная, которая служила нам и столовой и залом, где проходили шахматные турниры и викторины, где мы пели и читали.
За роялем сидел мальчик одних лет со мною, очень бледный, с жесткими темно-русыми волосами. Я запомнила его умные проницательные глаза и упрямую нижнюю челюсть.
С Андреем мы подружились быстро. Я всегда любила музыку. Эта любовь и сблизи ла нас. Я ж да ла, когда настанет вечер, Андрей сядет за рояль и начнет играть. Не важно что, лишь бы слушать его.
Андрей не стал музыкантом, но любовь к классической музыке осталась навсегда. Александр Гордон вспоминает о том, как они с Андреем в 1950-х ходили на концерты в консерваторию. На одном из них слушали Седьмую симфонию Баха.
По дороге домой разговорились… Седьмая симфония – его любимая, особенно ему нравится вторая часть. И он ста л напевать бетховенский отрывок. Потом сказал, что Кароян трактует этот отрывок лучше, чем Костя Иванов, а что сам он, если бы был дирижером, исполнил бы это место так – и он опять стал напевать.
«Консерваторцем» Андрей стал еще в школе. Говорит Людмила Смирнова:
Очень хорошо помню его любимое место – в первом амфитеатре, справа, под портретом Вагнера, где закругляется балкон. Он сидел только там – чтобы можно было облокотиться. Из исполнителей тогда блистала Мария Гринберг. Позднее я была удивлена, услышав слова Андрея, что он не любил Чайковского и Бетховена. Я помню, что он, как и все мы, обожал первый концерт Чайковского, «Лунную» и «Патетическую» сонаты Бетховена, «Аппассионату».
Эдуарду Артемьеву Тарковский однажды признался, что, если бы не стал режиссером, то обязательно пошел бы учиться на дирижера, «потому что ему близко это искусство и он всегда мечтал из хаоса что-то организовывать».
Возможно, в преклонении Андрея перед музыкой виноваты и гены. Ведь Арсений Тарковский в детстве учился в музыкальной школе, принадлежавшей родителям будущего гениального пианиста Генриха Нейгауза. Мальчику запомнилась мать Нейгауза – сердитая дама, которая, чтобы ученик не опускал кисти, подставляла под них остро отточенные карандаши. Пять лет он учился играть на фортепиано, пока не грянула революция, а за ней – гражданская война. Тут уж началась совсем другая музыка, и для иных исполнителей.
Арсений Тарковский любил и превосходно знал музыкальную классику. После Второй мировой войны он начал собирать грампластинки и имел одну из самых больших коллекций в Москве. Новые музыкальные направления типа додекафонистов он не приветствовал, но все же относился к ним терпимо.
Мальчиком он учился в музыкальной школе по Ганону, по руководствам, так сказать, золотой пробы, для которых, например, Скрябин был выскочкой, нарушителем спокойствия. Не только поэтому, но и поэтому тоже, авангард Арсению Тарковскому на старости лет был чужд. В искусстве превыше всего он ценил гармонию, распространяя это и на музыку.
Однажды Тарковский сказал:
Если верить в переселение душ, то в меня переселился кто-нибудь из небольших поэтов – Дельвиг, быть может… Я бы предпочел, чтобы это был Данте, но он не переселился. Или Моцарт хотя бы. Я до десяти лет учился музыке, а потом это прекратилось в связи с революцией. А я очень люблю музыку. С поэзией связаны все искусства, какие существуют на свете… И живопись, и музыка. Но музыка – самое высокое искусство, потому что ничего, кроме самое себя, не выражает.
Поэт невероятно тонко чувствовал и воспринимал музыку именно гармоничную, недаром он так любил сонату с ее строгой трехчастной формой и соотносил ее с формой сонета в поэзии. Казалось бы, рок-музыка должна была вызывать у него чувство отторжения… Но! Посетители квартиры Тарковских на «Маяковке» помнят, что нередко он ставил на проигрыватель пластинку с рок-оперой Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос – суперзвезда». Особенно нравилась ему ария Марии Магдалины.
Арсений Тарковский ценил чистоту жанра. Умение созидать гармонию – в данном случае мелодическую – так трактовал он задачу художника. Однако гармонию не в примитивном смысле – только как прекрасную мелодию. Гармония может выражаться и в очень сложных, непривычных для поверхностного восприятия формах. Скажем, у Вивальди она настолько проста, что пресыщенному слушателю может показаться даже сусальной. А вот Шостакович или Шнитке требуют душевных усилий для вхождения в их гармонический строй.