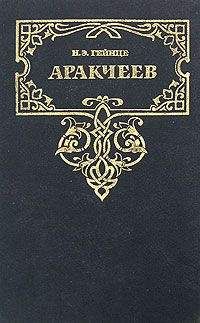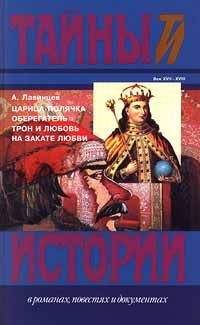Фриц Питерс - Детство с Гурджиевым. Вспоминая Гурджиева (сборник)
Я всё-таки увиделся с Гурджиевым, но не без значительного внутреннего сопротивления. Фактически, если бы я не получил от него письмо, в котором он просил меня прийти повидаться, я бы не встретился с ним вообще. Встреча сама по себе не слишком меня удовлетворила. Я пришёл с маленькой группой его последователей в ресторан в центре города. Это было шумное место, с грохочущей музыкой и танцами, и после того, как Гурджиев с любовью поприветствовал меня, он обратил своё внимание к другим людям, которые постоянно говорили с ним, в основном о неинтересных и, на мой взгляд, неважных личных проблемах. Длительное время моё участие в этом процессе состояло только в том, что я выполнил несколько его поручений: купил для него сигареты, особый сорт сыра, позвонил каким-то членам группы, чтобы попросить их прийти и встретиться с ним и прочее. В конце концов, когда настало временное затишье в общей беседе, Гурджиев повернулся ко мне, указал на пары, танцующие в переполненном зале, и спросил, понимаю ли я, что танцы являются очень интересным и безупречным примером того, что он называл «щекоткой». Мне показалось, что я понял, что он имеет в виду «расточительство», пустую трату, и я сказал ему об этом. Затем он спросил, знаю ли я, что щекотка является «социальной мастурбацией», которая, в основном из-за возраста, смущает меня. Я смог ответить, что согласен с этим, и он сказал, что мне пора объективно смотреть на жизнь людей, наблюдать человеческие проявления и пытаться понять разницу между искренним сущностным нормальным человеческим поведением и «щекоткой» или «мастурбацией». Гурджиев добавил, что хотя он использовал как пример танцы, мне следует научиться распознавать эту «мастурбацию» в других сферах человеческой деятельности. К примеру, люди быстро учатся сразу же превращать всё – даже их религию или так называемые серьёзные убеждения – в некую бессмысленную форму щекотки. Я соотнёс это с его давним утверждением, что большинству человечества неизбежно суждено стать всего лишь удобрением. Гурджиев был очень доволен, что я помнил тот разговор. Он сказал, что недавно изучал американский язык и узнал много новых и широко используемых терминов; что теперь он хочет заменить термин «удобрение» на «дерьмо», потому что последнее слово было «настоящим» словом… словом, честно выражающим смысл, которое придавало нужный оттенок этому конкретному человеческому состоянию. Гурджиев продолжал, что я, как большинство молодых людей – особенно американцев – всегда смотрю на мир перевёрнуто. К примеру, я предполагал, что любой, кого я встречал, был хороший, искренний, честный и пр., и пр., и узнавал правду о людях только после разрушение иллюзий. Такой подход – долгий, медленный и неправильный процесс. «Вы должны научиться смотреть сразу правильно, – сказал он. – Любой человек, которого вы видите, включая себя, – это дерьмо. Вы знаете это, и когда вы найдёте что-то хорошее в этом дерьмовом человеке, – некую возможность не быть дерьмом, – вы почувствуете себя лучше, когда узнаете, что он лучше, чем вы думали, а ещё у вас будет правильное наблюдение. К тому же, если вы уже считаете себя дерьмом, то когда вы будете наблюдать себя и увидите в себе что-то хорошее, вы сможете тотчас же осознать это и тоже обрадуетесь. Важно, чтобы вы подумали об этом».
В моём сознании возникла немедленная ассоциация с членами чикагской группы, и это изменило моё отношение к ним и мнение о них. Вместо того чтобы разочаровываться в них из-за никудышности в гурджиевской работе, я начал смотреть глубже. Казалось более честным и реалистичным считать людей, и себя в том числе, никчёмностью (или дерьмом, как это определил Гурджиев), и тогда разглядеть в них некий маленький подлинный элемент. И, к моему удивлению, это также приводило к более сострадательному взгляду на человечество. Вместо того чтобы критически выискивать недостатки, я начал искать признаки достижений, подобно тому как радуются, когда собака выучивает трюки. Это лучше, чем бранить людей за то, что они вообще ничему не могут научиться.
Намеревался ли Гурджиев изменить таким образом моё отношение, вопрос спорный. Это оказало на меня воздействие, и мне стало казаться, что эффективность работы Гурджиева – или, если на то пошло, любой работы такого рода – неизбежно определяется восприимчивостью человека, с которым работают. Этот разговор привёл к тому, что в общении с чикагской группой и другими людьми я стал намного менее раздражительным и более спокойным. Был короткий период, в течение которого меня смущал парадокс, что я считал людей дерьмом и вследствие этого сильнее ощущал себя в гармонии с ними, но я недолго ломал над этим голову. Я был рад изменениям, и мне этого было достаточно.
Наша встреча закончилось тем вечером малопонятным анализом – со стороны Гурджиева – моего общения с ним. С юмором, явно смакуя некую личную шутку, он сказал, что другие присутствующие учились его работе совсем не так, как я. Из-за того, что в детстве я общался с ним, у меня были такие проблемы и войны, которых другие люди никогда не переживали. «Вы не хотели приходить сюда этим вечером, – сказал он, – поэтому мне, очень занятому человеку, необходимо было потратить время, чтобы послать за вами. Вы не хотели приходить, потому что у вас внутри борьба между реальным «Я» и личностью. Вы учитесь моей работе не из разговоров или книг, вы учитесь на собственной шкуре и не можете уйти. Эти люди, – и он указал на других членов группы, – должны делать усилия, приходить на встречи, читать книги. А вы, даже если никогда не будете посещать встреч, никогда не будете читать книг, всё равно не сможете забыть то, что я вложил в вас, когда вы были ребёнком. Эти другие, если не придут на встречу, даже забудут о существовании мистера Гурджиева. Но не вы. Я уже в вашей крови – делаю вашу жизнь несчастной навсегда – но такое страдание может быть хорошим для вашей души, так что, даже если вы и несчастны, нужно благодарить Бога за те страдания, которые я вам дал».
Перед тем как Гурджиев покинул Чикаго, у меня была с ним личная встреча. Я ломал голову над его замечаниями о моих проблемах в отношении его работы, и у меня не было никакого желания расследовать этот предмет дальше. Я устал от неразберихи, а его слова только усилили моё озадаченное состояние. Но когда Гурджиев попросил меня помочь ему приготовить еду у него на квартире, я почувствовал, что не могу отказать. Так вышло, что работы для меня было немного, и большую часть времени он задавал мне обычные вопросы о моей семье, о работе, которой я занимался и так далее. Это всё напоминало визит старого родственника, который снизошёл до проявления неожиданного интереса к младшему члену семьи.