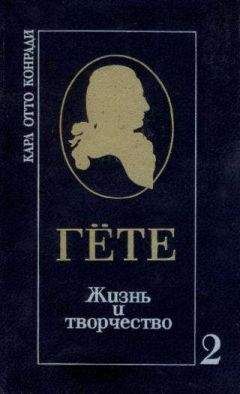Карл Отто Конради - Гёте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни
Пересказ событий этой драмы не позволяет судить о насыщенности, плотности отдельных сцен, о силе поэтического языка, способного немногими словами и фразами передать своеобразие каждого персонажа. Император и крестьянин, слуга и епископ, юрист и придворный шут, нерешительный и неверный Вейслинген и соблазнительная и коварная Адельгейда, любящие и заботливые Мария и Элизабета и, наконец, Готфрид фон Берлихинген — в языке каждого из них выражена его индивидуальность, так что возникает живая панорама бурного времени, чего не было ранее ни в одной немецкой драме. У юного писателя, умеющего психологически вчувствоваться и живо сочинять, некоторые сцены благодаря творческому переизбытку получились слишком красочными и резкими. В своей автобиографии Гёте признавался, что влюбился в Адельгейду: его перо непроизвольно писало только о ней, и интерес к ее судьбе взял верх над всем остальным (3, 482). Она под его пером приобрела демоническое величие и одержимость, сумела пленить не только Вейслингена, но и Франца фон Зиккингена и погубить своего слугу. Во второй редакции все это смягчено и сглажено.
В начале 1772 года Гёте послал свою драму на суд Гердеру, называя ее весьма сдержанно наброском, хотя и нарисованным кистью на полотне и в некоторых местах даже и выписанным, но все же остающимся только наброском». Гердер в ответ не поскупился на критику. Его письма мы, правда, не знаем, но Гёте цитирует в собственном письме от июля 1772 года самое главное: «Окончательное суждение, «что Вас Шекспир совсем испортил и т. д.», я признал сразу во всей его силе». В своем суждении Гердер вряд ли имел в виду превращение драмы в соединение множества свободно следующих друг за другом сцен, потому что во второй редакции их стало не многим меньше: их осталось 56; ничего не изменилось и в отношении краткости некоторых сцен. Очевидно, Гердер имел в виду что-то другое: возможно, преувеличенно яркий образ Адельгейды, достигающий масштабов шекспировских злодеев; несообразную странность сцены пребывания Адельгейды у цыган, где она покоряет даже Зиккингена; резкость сцен Крестьянской войны и неограниченную свободу словесного выражения. Во всяком случае, так можно судить на основании тех изменений, которые внес в драму Гёте. Вторая редакция написана в короткое время, весной 1773 года, и вышла в июле под новым заголовком: «Гёц фон Берлихинген с железной рукой. Пьеса». Намеченная выше основа пьесы осталась без изменения. Филолог, конечно, не пройдет мимо отдельных оттенков, и прежде всего изменений, произведенных в заключительной сцене. В то время как первая редакция заканчивается без всяких намеков на какие-то надежды в будущем, во второй редакции в словах Гёца об окружающей природе содержится робкое утешение: «Боже всемогущий! Как хорошо под небом твоим! Как свободно! На деревьях наливаются почки, все полно надежды» (4, 102). Но и здесь сохраняется мрачное пророчество: «Бедная жена! Я оставляю тебя в развращенном мире. Лерзе, не покидай ее… Замыкайте сердца ваши заботливее, чем ворота дома. Приходит время обмана, ему дана полная свобода. Негодяи будут править хитростью, и честный попадется в их сети» (4, 102).
Понимание драмы Гёте представляет известные трудности. К однозначным выводам прийти нельзя, поскольку не все аспекты пьесы укладываются в целостное ее истолкование. Конечно, можно утверждать, что Гёц фон Берлихинген даже со своей железной рукой воплощает стихийную силу и может считаться символом целого поколения протестующей молодежи 1771 года. Конечно, юный писатель замыслил его как сильную личность, постоянно заботящуюся о правах своих сподвижников и угнетенных, для которого верность не пустой звук. Он гибнет, ибо ему нет места в новом «развращенном мире». В третьем акте, после того как принесена последняя бутылка и Гёц и его сподвижники провозгласили «Да здравствует император!» и сразу же затем — три раза — «Да здравствует свобода!», Гёц набрасывает что-то вроде утопии счастливой жизни и общественного бытия: «Когда слуги князей будут служить им так же верно и вольно, как вы мне служите, когда князья будут служить императору так же, как я хотел ему служить…», когда бы господа стали заботиться о своих подданных и стали бы счастливыми сами по себе и в них, когда бы они могли терпеть рядом с собой свободных соседей, не боясь их и не завидуя им, тогда бы наступили мир и покой и каждый мог бы жить по — своему. Для рыцарей всегда бы нашлось дело: очистить горы от волков, принести жаркое из леса мирно пашущему соседу и защитить всех от внешних врагов империи. «Вот была бы жизнь, Георг! Рисковать головой за всеобщее благо!» (4, 71). В первой редакции говорилось о порядке, царящем в природе, на который походил бы порядок в человеческом обществе: никто не захотел бы расширять свои границы. «Он оставался бы охотнее, подобно солнцу, в своем кругу, чем, подобно комете, стремил бы свой ужасный, изменчивый полет через многих других».
Только что это за порядок, возникающий в этом видении? Что означает слово «свобода», которое все время на устах у Гёца? И как Гёте соотносит все это со своим временем?
Гёц боролся за свои права, сохраняя безусловную верность как императору, так и своим людям. Их судьба была его собственной судьбой. Он стремился оставаться деятельным, безделье было не по нему. Жить так, как написал однажды о себе его создатель — «вариться в собственном соку», — он не желал. Именно потому, что он был большим человеком, не желавшим покоряться, он мог стать героем драмы. Это было последовательно и достаточно очевидно. Но то, за что он выступал — права рыцаря-разбойника, права ушедшей эпохи, ни в коей мере не могло быть перенесено на эпоху Гёте и служить ей примером. Свобода, по Гёцу, — это была свобода пользоваться кулачным правом, свобода сохранения сословного уклада, при котором власть господ — обязанных, правда, заботиться о своих подданных, так же как Гёц о верных ему людях, — нисколько не ограничивается, а, наоборот, должна быть гарантирована.
В статье «Высокий стиль искусства у немцев» Юстус Мёзер отдавал должное кулачному праву и противопоставлял его современному положению воина, при котором невозможно проявить личную храбрость. «Отдельные случаи разбоя, которые бывали, ничто по сравнению с опустошениями, которые несут с собой наши войны». Новое положение воина должно было «неизбежно подавить все индивидуальное многообразие и совершенство, каковые только и делают нацию великой». Кулачное право отнюдь не было льготной грамотой для любого и неумеренного грабежа, оно регулировалось «законами частных войн», которые все же стоили меньших жертв, чем военные конфликты более позднего времени. «Кулачное право было правом частной войны под надзором мировых судей». Мёзер подчеркивал, что старое право не может быть введено снова, но это не должно помешать «называть счастливыми времена, когда кулачное право действительно соблюдалось».