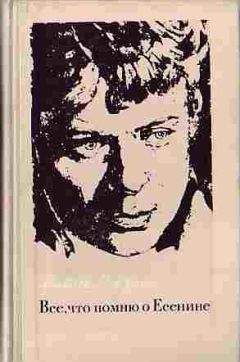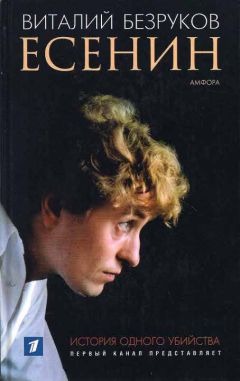Антология - Живой Есенин
Так разделились имажинисты на правое крыло, во главе с Есениным, которое решило учиться у классиков, но внося в стихи метафору, как средство для яркого изображения, и на левое – во главе с Шершеневичем и Мариенгофом, которое – что греха таить! – все еще увлекалось стилем раннего Маяковского, итальянскими футуристами и английскими имажинистами.
Декларация имажинистов, одновременно опубликованная в московской газете «Советская страна» и воронежском журнале «Сирена», лила воду на мельницу левого крыла. Почему так получилось? Она была составлена и напечатана на машинке Шершеневичем, подвергалась обсуждениям, спорам, но – увы! Все это делалось второпях – спешили ее напечатать. А когда поместили на страницах газеты и журнала, она снова вызвала возражения у Есенина. Против нападок на футуристов он не протестовал, но, естественно, не мог согласиться с такими строками декларации:
«Тема, содержание – это слепая кишка искусства…»
«Всякое содержание в художественном произведении так же глупо и бессмысленно, как наклейка из газет на картины».
«Мы с категорической радостью заранее принимаем все упреки в том, что наше искусство головное, надуманное, с потом работы… Мы гордимся тем, что наша голова не подчинена капризному мальчишке – сердцу…»
Декларация была подписана Есениным, но на первых же заседаниях «Ордена» он, выступая, начал осуждать эти положения, а мы – правое крыло – стали его поддерживать. И он – этого никто не может отрицать – стал на деле, то есть своими стихами доказывать несостоятельность некоторых утверждений декларации…
Однако противоположные взгляды на поэзию, содержание, образ не мешали долгое время всем нам жить дружно, хотя и яростно спорить друг с другом. Конечно, лидер правых Есенин, к нашему торжеству, всегда одерживал верх своими стихами. У левых же был искрометный оратор Шершеневич, укладывающий своим красноречием любого оппонента на лопатки. Впрочем, он признавал, что Сергей идет впереди, защищал его в своих выступлениях, а на заседаниях «Ордена имажинистов» или правления «Ассоциации» поддерживал.
Я пришел поздно в «Стойло». Вадим Шершеневич заканчивал выступление, а после него на эстраду вышел Александр Кусиков, которого мы звали Сандро. Он был в коричневом, почти по колени френче, такого же цвета рейтузах, черных лакированных сапожках со шпорами, малиновым звоном которых любил хвастаться. Худощавый, остролицый, черноглазый, со спутанными волосами, он презрительно улыбался, и это придавало ему вид человека, снизошедшего до выступления в «кафе свободных дум», как он окрестил «Стойло». И в жизни и в стихах он называл себя черкесом, но на самом деле был армянином из Армавира Кусикяном. Непонятно, почему он пренебрегал своей высококультурной нацией? Еще непонятней, почему, читая стихи, он перебирал в руках крупные янтарные четки?
Шершеневич, проработавший с ним в книжной лавке добрых четыре года и напечатавший с ним не один совместный сборник стихов, рассказывал:
– Сандро хорошо знал арабских поэтов. Знал быт, нравы черкесов. Его отец часто рассказывал, как черкесы на конях похищают в аулах девушек. Только не думаю, чтоб отец Сандро похитил свою жену: такая и без умыкания вышла бы за него замуж! Красавец!
Кусиков читал свою поэму причащения «Коевангелиеран», что в расшифровке означало: «Коран и Евангелие». Но, несмотря на мусульманский фольклор, не только ритм, но и слова напоминали стихи Есенина:
Я родился в базу коровьем
Под сентябрьское ржание коня[27].
Сандро закончил чтение под жидковатые аплодисменты, это его не устраивало, и он громко объявил, что сейчас артистка Клара Милич пропоет его популярный романс «Обидно, досадно».
В одно мгновение в его руках очутилась гитара, и очень эффектная Клара Милич (псевдоним) запела:
Обидно, досадно
До слез и до мученья,
Что в жизни так поздно
Мы встретились с тобой…
Есенин сказал мне, чтоб я до двенадцати часов никуда не уходил.
– Пойдем всей группой, – пояснил он.
Ровно в двенадцать он, Вадим, Сандро, я и пришедшие Мариенгоф, братья Эрдманы, Г. Якулов оделись в гардеробной и вышли на улицу. Шел легкий снежок, ложась соболиным мехом на шапку, воротник, плечи. Тускло горели чудом уцелевшие после двух революций фонари у памятника Пушкину, под ними посиневшие беспризорные, дрожа от холода, выкрикивали: «„Ира“ рассыпная! Кому „Иру“?» Перейдя на другую сторону Тверской, мы дошли до угла и повернули направо – к Страстному монастырю (туда, где ныне находится кинотеатр «Россия»). В тусклом свете выплыл огороженный низкой стеной, с голубыми башенками, с наглухо закрытыми воротами женский монастырь. Мы прошли мимо него, повернули назад и стали прохаживаться по тротуару. Конечно, мы были удивлены этой странной ночной, возглавляемой Есениным прогулкой. Но спустя несколько минут он обратил наше внимание на ворота монастыря: перед ними стояли две женщины и двое одетых в штатское мужчин. Один из них постучал в железные ворота, что-то сказал, дверца раскрылась, и все четверо вошли в тихую обитель. До часу ночи мы видели, что то же самое проделали несколько мужчин, из них некоторые в военной форме, с тяжелыми свертками…
В двадцатых числах апреля в «Стойле Пегаса» состоялось заседание «Ордена имажинистов». Не пришел Рюрик Ивнев, который год назад выбыл из «Ордена», а теперь снова вступил в него. Шершеневич по этому поводу сострил:
– Рюрик Ивнев – блуждающая почка имажинизма!
Рюрик об этой остроте узнал и, когда в 1922 году выпускал книгу «Четыре выстрела», написал в адрес Шершеневича:
«Из твоих глаз глядят восковые зрачки куклы».
С тех пор Вадим никогда не задевал Рюрика.
Грузинов объяснил, что Ивнев исполняет обязанности председателя Всероссийского союза поэтов и, возможно, к концу заседания появится.
Иван Грузинов был чуть ниже среднего роста, грузный, с покатыми плечами, с широким крестьянским лицом и тщательно расчесанным пробором на голове. Ходил он всегда в коричневой гимнастерке с двумя кармашками на груди – в левом находились вороненой стали открытые часы и свешивалась короткая цепочка. Грузинов чаще, чем полагается, любил вынимать часы и говорить с точностью до одной секунды время. Он писал стихи о русской деревне, образы у него были пластичные, часто прибегал к белым стихам, иногда впадал в натурализм (например, поэма «Роды»). По крестьянской тематике он был близок Есенину, но нет-нет да критиковал строки Сергея, хотя это не мешало ему быть в плену есенинских строк:
О, если б прорасти глазами,
Как эти листья, в глубину[28].
А у Грузинова: