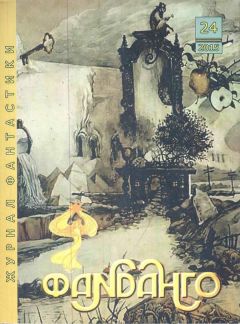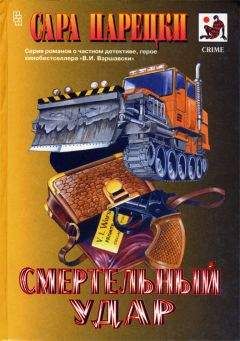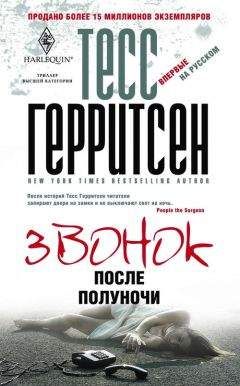Зинаида Гиппиус - Живые лица
Мы в длинной столовой-зале, с окнами на обоих концах. Стол тоже длинный. Народу много, но не очень: все, кажется, родственники.
Софья Андреевна знакомит, хлопочет:
— Садитесь, садитесь! Лев Николаевич сейчас выйдет!
Мы уже начали усаживаться, когда из дальней двери налево, шмыгая мягкими ичигами, вышел небольшой худенький старичок в подпоясанной блузе. Длинная блуза топорщилась на осутуленной спине.
Он шаркал довольно быстро, тотчас стал здороваться. Но меня поразило почему-то, что он — маленький. Это — Лев Толстой? Если все бесчисленные портреты, которых мы навидались так, что они точно вросли в нас, если они — Толстой, то этот худенький старичок — не Толстой. Словом — не могу их соединить, нового живого — с неживым и привычным.
Софья Андреевна сидит на конце стола, я — сбоку, налево от нее, Толстой направо, прямо против меня. Стол узкий, я вижу хорошо и серую блузу, и редкую седую бороду, слегка впадающую в желтизну, и темные, густые брови: они как-то не грозно, а печально нависают над глубоко сидящими глазами. Глаза детские — или старческие — с бледной голубизной.
Толстой говорит с Мережковским; что-то о дороге, кажется, я не слышу, за столом очень шумно. Софья Андреевна ест быстро, с манерой всех близоруких — немножко «под себя». Не забывает потчевать пирожками. Блюда подает лакей в белых перчатках. Середина стола, вся — в бутылках с винами. А скоро перед Софьей Андреевной (т. е. и перед Толстым) воздвиглось блюдо с жареным поросенком — даже помню его оскаленные зубы.
Толстой, впрочем, не смотрит, он ест свое, отдельное, в маленьких горшочках, ест по-старчески внимательно, долго жует губами.
После обеда Софья Андреевна тщательно и весело показывала нам яснополянский дом, все картины, все портреты: «Вот это — Берсы!» — говорила, не без гордости, указывая на ряд потемневших полотен. В ее комнате мольберт, она занимается живописью.
— А вот спальня Льва Николаевича. Небольшая комната, белая пружинная кровать, столик, почти ничего больше…
Мы выходим на деревянный широкий балкон; парк внизу полон душистой весенней сыростью.
— Вы из Москвы за границу едете? — говорит Софья Андреевна и тотчас, обратившись ко мне, шутит:
— Вот оставайтесь здесь со Львом Николаевичем, а я вместо вас поеду за границу! Ведь я никогда за границей не была!
Бледными сумерками Софья Андреевна ведет нас в парк. Она, как девочка, прыгает через канавки, торопится все показать, все рассказать… Мы обходим кругом, она объясняет, какая роща какому принадлежит сыну, какая будет нынче сведена… И уже опять о завтрашней своей поездке в Москву, об изданиях — дела, дела…
Возвращаемся в длинную залу. В дальнем углу, где стоит диван и кресла вокруг круглого стола — Софья Андреевна теперь за broderie anglaise,[287] на диване, и низко клонится к лампе с широким белым абажуром. Толстой сидит немного в стороне, на своем, должно быть, кресле, в привычно усталой позе. Случайных посетителей нет, только двое или трое каких-то, видно, постоянных жителей, да молчаливый мужчина в коричневом охотничьем костюме.
Привычно усталым голосом Толстой говорит привычные вещи. О жизни… О молитве… Но Софья Андреевна и тут, схватывая момент, успевает сказать напротив. Молитва? Нет, а она верит, что можно в молитве просить о чем-нибудь и непременно исполнится. Толстой заговорил неодобрительно о современных стихотворцах, упомянул Сологуба… Софья Андреевна срывается с места, хватает с рояля номер иллюстрированного журнала и прочитывает вслух стихотворение Сологуба.
— А мне — нравится! — говорит она не без вызова, возвращаясь к broderie anglaise.
Скоро мы перешли на другой конец залы, к чайному столу. Чай пить явились не все сразу. И очень быстро, один за другим, исчезали. А Толстой тут-то и стал оживляться. Сам затеял разговор. Слушали его лишь какие-то два крайне молчаливых человека. Даже Софья Андреевна ушла (завтра к раннему поезду вставать!), простившись с нами весело и прелюбезно.
Разговор, в подробностях, забылся, скажу лишь о том, что помню наверное. Да и говорил Толстой, вероятно, то, что всегда и многим говорил, что много раз записано, но тон был очень оживленный, и чувствовалось, когда он обращался к Мережковскому, что книгу его о себе он читал. (Так оно и было: Толстой все читал, знал всю современную литературу. Даже наш религиозный журнал «Новый путь» читал!)
— Все хочу настоящий дневник начать и не могу. Ведь если б записать правдиво хоть один день моей жизни, ведь это было бы так ужасно…
— Как, — перебиваю я, — теперешней вашей жизни? Толстой кивает головой: да, да, теперешней…
Мне странно. Что это? Такая бездна смирения? Чем он считает себя так грешным — теперь?
Мы говорим, конечно, о религии, и вдруг Толстой попадает на свою зарубку, начинает восхвалять «здравый смысл».
— Здравый смысл — это фонарь, который человек несет перед собою. Здравый смысл помогает человеку идти верным путем. Фонарем путь освещен, и человек знает, куда ставить ноги…[288]
Самый тон такого преувеличенного восхваления «здравого смысла» раздражает меня, я бросаюсь в спор, почти кричу, что нельзя в этой плоскости придавать первенствующее значение «здравому смыслу», понятию, к тому же, весьма условному… и вдруг спохватываюсь. Да на кого это я кричу? Ведь это же Толстой! Нет, я решительно не могу соединить худенького, упрямого старичка с моим представлением о Льве Толстом. Не то что этот хуже или лучше: а просто Львов Толстых для меня все еще два, а не один.
В сущности же маленький старичок говорит именно то, что говорит и пишет Л. Толстой все последние годы. Я понимаю, что Толстой — «материалист». Но я понимаю (утверждаю это и теперь), что Толстой — совершенно такой же «материалист», как и другие русские люди его поколения, религиозно-идеалистические материалисты. Только он, как гениальная, исключительной силы личность, довел этот идеалистический материализм до крайней точки, где он уже имеет вид настоящей религии и отделен от нее лишь одной неуследимой чертой.
Переступил ли ее Толстой? Переступал ли в какие-нибудь мгновения жизни? Вероятно, да. Думаю, что да. Мы говорили о воскресении, о личности. И вдруг Толстой произнес, ужасно просто, — потрясающе просто:
— Когда буду умирать, скажу Ему: в руки Твои передаю дух мой. Хочет Он — пусть воскресит меня, хочет — не воскресит, в волю Его отдамся, пусть Он сделает со мной, что хочет…
После этих слов мы все замолчали и больше уж не спорили ни о чем.
Утром, часов в восемь, мы столкнулись, выходя из своих комнат, со Львом Николаевичем в маленькой передней. Он возвращался с прогулки, бодрый, оживленный, в белой поярковой шляпе.