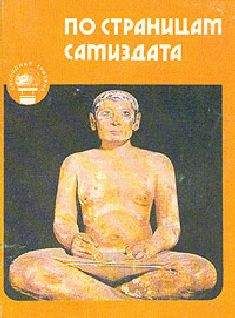Петр Григоренко - В подполье можно встретить только крыс
- Приказ командира батальона. Отменит он приказ или даст разовое разрешение, пожалуйста, хоть в Москву, хоть вместе со всем батальоном.
- Я комиссар! Я даю распоряжение!
- Нет, батальоном командует только одно лицо - командир. И я, как начальник штаба, подчиняюсь только ему.
- А комиссару не подчиняетесь?!
- Подчиняюсь, но только не в том, что относится к моей работе, как начальника штаба. Нарушить действующие приказы командира я не позволю никому. Заботиться об авторитете приказа и отдавшего его командира - мой священный долг и, насколько я понимаю положение об единоначалии, это также и ваш долг, как комиссара.
Помирил нас Павел Иванович, которому, видимо, доложили о том, что у меня баталия. Войдя в мой кабинет, он удивленно спросил:
- Что это вы, как петухи перед боем?
Я коротко доложил. Он сразу же примирительным тоном:
- Да в чем дело?! Тебе что, Гаврила Петрович, машина нужна? И люди? Кто именно? Петр Григорьевич, дайте распоряжение! Катите, Гаврила Петрович, ни пуха, ни пера. И в будущем, всегда когда нужно, скажи только мне. А так как сегодня нельзя делать. Надо же и начальнику штаба посочувствовать. Он же головой за невыполнение приказов отвечает. Кому кому, а нам с тобой надо помогать ему в этом.
На этом вакханалия с машинами и людьми прекратилась. Но еще много стычек было, пока Воронцов усвоил-таки, что ни начальник штаба, ни штаб в целом, ему не подчинены, хотя он при беспартийном командире и называется комиссаром. Но это не комиссар гражданской войны. Командир, даже беспартийный, в делах командования полноправен во всем объеме.
Перебирать все стычки бессмысленно, но одну, длительную, упомяну, поскольку она имела продолжение впоследствии. Около Гаврилы Петровича отирался захудалый солдатик Черняев. Он ежедневно норовил увильнуть от занятий и Гаврила Петрович, пользуясь своей властью, каждый раз оставлял его в своем распоряжении, т. е. без дела. Наводя порядок в деле боевой подготовки, я выкапывал уклоняющихся от учебы из всех уголков. Добрался и до Черняева. Но пока добился, чтоб он начал нормально учиться, пришлось несколько раз столкнуться с Гаврилой Петровичем и даже прибегнуть к помощи Павла Ивановича. Думаю, что Черняев не очень доволен был мною. Во всяком случае, я неоднократно ловил на себе его злые взгляды.
Удачное, в общем, начало послеакадемической службы было омрачено большим семейным горем. Умер наш второй ребенок. Первенец - Анатолий - родился еще в 1929-ом году - в год моего поступления в институт. Сейчас, когда мы приехали в саперный батальон, дислоцировавшийся в Витебске, пятилетний Анатолий уже не отставал в играх от моей младшей (9-ти летней) сестры Наташи. Второму моему сыну в июне 1934-го года, когда мы прибыли к новому месту службы, исполнилось только 7 месяцев. Назвали мы его Георгий. И вот в августе 34-го года этот ребенок умер.
Жена уехала с ним в Сталинo (ныне Донецк) к своим родителям. Вскоре я получил телеграмму, что ребенок тяжело болен. Я немедленно выехал. Бросился к врачам. Таскал к ним обессилевшего ребенка. Платил за частные приемы, но ребенок угасал. Острая дизентерия уносила его. За несколько дней он ушел в небытие. Я держал в руках мертвое тело, ничего не понимая. У меня пытались отобрать, я не отдавал. Затем отдал и сел. Сидел не двигаясь, наблюдая, но ничего не сознавая, как его моют, обряжают, отпевают. Родители жены пригласили все же священника. Потом младший мой брат - Максим - взял меня под руку. Я не удивился тому, что он оказался здесь, в Сталинo, и безвольно пошел с ним на кладбище. После возвращения домой сели помянуть. Я пил рюмку за рюмкой, но не пьянел. Подсел муж старшей сестры моей жены - Николай Кравцов:
Ты поплачь, Петя, легче будет...
Но плакать я не мог. Во мне все замерло. Только очень ныло там, где у человека должно быть сердце. До вечера я просидел за столом. Там и уснул. Меня перетащили в постель и я проспал более четырех суток. Просыпаясь иногда, по естественным надобностям, я неизменно чувствовал нытье в сердце и скорее ложился снова в постель. Когда, наконец, я этой боли не почувствовал, решил подниматься. Делал почти все автоматически. Мысли о ребенке не оставляли меня. Угнетало: как же это так, почему мы взрослые, разумные люди, не смогли спасти беспомощное существо. Я горько упрекал себя за то, что прибыв сюда, не вывез немедленно маленького Георгия из этого убийственного климата. Вспоминалось, как в 1930-ом году Анатолия уже отпевать собирались, а я схватил его прямо в смертной рубашке, завернул в первое попавшееся одеяло и бросился на станцию. Все родственники бежали за мной, прося вернуться, не мучить умирающего ребенка, но я не вернулся и не обернулся, сел в поезд и жена вынуждена была тоже поехать со мной. Мы приехали в Борисовку и там наш сын ожил. Почему же теперь я не сделал этого? Я корил себя, считая виновником смерти сына.
Но так уж видно устроен человек, что стремится с себя вину сбрасывать. Произошло это и со мной. Вскоре мысли о моей вине уступили место мыслям о вине жены. Я уже со злобой думал: "А зачем она его сюда повезла, в этот климат?" Я прекрасно знал, что если б я сказал хоть слово против этой поездки, она бы не состоялась. Но я об этом не думал. Наоборот, я изливал желчь на нее: "Поехала в этот ад, да еще и от груди отняла..." И я продолжал "навинчивать". Но вернувшись домой, и, увидя жену, я понял, что ей тяжелее, чем мне. Проснулась жалость. Я стал ласковее, внимательнее с нею. Но трещина в наших отношениях, созданная смертью Георгия, так никогда и не закрылась. Я надеялся, что рождение нового ребенка поможет восстановить прежние взаимоотношения. Когда жена забеременела, я молил Бога, чтоб снова родился мальчик. И моя мольба была услышана. 18 августа 1935 года - ровно через год после смерти маленького Георгия - родился сын, которого мы тоже назвали Георгием. Вся родня возражала против этого имени, твердя, что нельзя называть именем умершего, но я сказал, что будет Георгий. И это не во имя умершего, а во имя отца моего, которого хотя и зовут Григорием, по метрике он Георгий. Таким образом, я как приехал в 1934 году в Витебск с двумя сыновьями - Анатолием и Георгием - так и уезжал в 1936 году, имея двух сыновей с теми же именами. Но боль утраты от этого не исчезла. Она притупилась, но я никогда не перестану чувствовать в своих руках беспомощное тельце, из которого уходит жизнь. И в этом моя несомненная вина. Великим грехом своим считаю и то, что, стремясь уменьшить свою вину, в душе обвинял его мать, которая тоже уже давно в земле.
Но вернемся от дел гражданских к делам, которыми был занят я. Как-то я так устроен, что отвлеченные мечтания меня не увлекают. Я всегда поглощен тем делом, которое силой обстоятельств оказалось у меня в руках. Уже четырежды менял я направление своей деятельности. И каждый раз на новом поприще я начинал с того, что внутренне, без особых усилий, убеждал себя в том, что именно данное дело является наиболее интересным и соответствует моим наклонностям. При такой внутренней убежденности работа всегда кажется интересной, и ты отдаешь ей все силы.