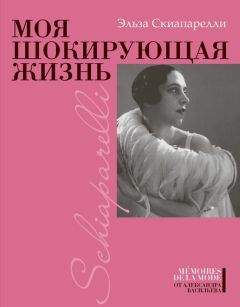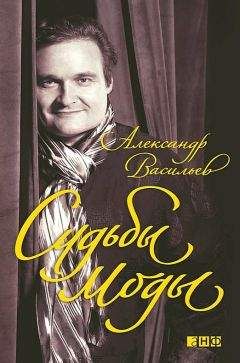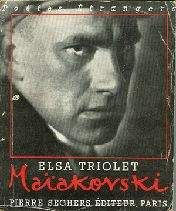Владимир Гиляровский - Мои скитания
Когда я занимал уже хорошее положение в московской печати, ко мне зашел Саша Яковлев в какуюто тяжелую для него минуту жизни. Я не помню уже, что именно с ним случилось, но знаю, что положение его было далеко не из важных. Я обрадовался ему, он у меня прожил несколько дней и в тот же сезон служил у Корша, где вскоре стал премьером и имел огромный успех. Не помню его судьбу дальше, уж очень много разных встреч и впечатлений было у меня, а если я его вспомнил, так это потому, что после войны это была первая встреча за кулисами, где мне тут же и предложили остаться в труппе, но я отговорился желанием повидаться с отцом и отправился в Вологду, и по пути заехал в Воронеж, где в театре Матковского служила Гаевская.
Явился домой ровно в полночь к великой радости отца, которому в числе гостинцев я привез в подарок лучшего турецкого табаку, добытого мною в Кабулетах. От отца я получил в подарок дедовскую серебряную табакерку.
— Береги, она счастливая! — сказал мне отец.
Недолго я пробыл дома. Вскоре получил письмо от Далматова из Пензы, помеченное 5 октября 1878 года, которое храню и до сих пор. Он пишет:
«Мне говорили, что Вы уже получили отставку, если это так, то приезжайте ко мне трудиться… Я думаю, что отец доволен Вашим поступком — он заслуживает признательности и похвалы. Что касается до меня, то в случае неустойки я к Вашим услугам. Хотя я и вновь обзавелся семейством, но это нисколько не мешает мне не забывать старых товарищей».
И вот я в Пензе. С вокзала в театр я приехал на «удобке». Это специально пензенский экипаж вроде извозчичьей пролетки без рессор, с продольным толстым брусом, отделявшим ноги одного пассажира от другого. На пензенских грязных и гористых улицах всякий другой экипаж поломался бы, — но почему его назвали «удобка» — не знаю. Разве потому, что на брус садился, скорчившись в три погибели, третий пассажир?
В 9 утра я подъехал к театру. Это старинный барский дом на Троицкой улице, принадлежавший старому барину в полном смысле этого слова, Льву Ивановичу Горсткину, жившему со своей семьей в половине дома, выходившей в сад, а театр выходил на улицу, и выходили на улицу огромные окна квартиры Далматова, состоящей из роскошного кабинета и спальни. Высокий кабинет с лепными работами и росписью на потолке. Старинная мебель… Посредине этой огромной комнаты большой круглый стол красного дерева, заваленный пьесами, афишами, газетами. Над ним, как раз над серединой, висела толстая бронзовая цепь, оканчивавшаяся огромным крюком, на высоте не больше полутора аршин над столом. Наверно здесь была люстра, когдато, а теперь на крюке висела запыленная турецкая феска, которую я послал Далматову с войны в ответ на его посылку с гостинцами, полученную мной в отряде.
Дверь мне отпер старыйпрестарый, с облезлыми рыжими волосами и такими же усами отставной солдат, сторож Григорьич, который, увидя меня в бурке, черкеске и папахе, вытянулся повоенному и провел в кабинет, где Далматов — он жил в это время один — пил чай и разбирался в бумагах. Чисто выбритый, надушенный, в дорогом халате, он вскочил, бросился ко мне целоваться…
Григорьич поставил на стол к кипящему самовару прибор и — сам догадался — выставил из шкафа графин с коньяком.
После чаю с разговорами Далматов усадил меня за письменный стол, и началось составление афиши на воскресенье. Идут «Разбойники» Шиллера. Карл— Далматов.
— А вы сыграете Швейцера (тогда мы еще были на «вы»).
И против Швейцера пишет: — Гиляровский. Я протестую и прошу поставить мой старый рязанский псевдоним — Луганский.
— Нет, надо позвучнее! — говорит Далматов и указывает пальцем на лежащую на столе книжку: «Тарантас», соч., гр. В. А. Сологуба.
И зачеркнув мою фамилию, молча пишет: Швейцер — Сологуб.
— Как хорошо! И тоже В. А.! Великолепно, за графа принимать будут.
Так этот псевдоним и остался на много лет, хотя за графа меня никто не принимал. Я служил под ним и в Пензе, и на другое лето у Кузнецова в Воронеже, где играл с M. H. Ермоловой и О. А. Правдиным, приезжавшими на гастроли. Уже через много лет, при встрече в Москве, когда я уже и сцену давно бросил, О. А. Правдин, к великому удивлению окружающих, при первой московской встрече, назвал меня постарому Сологубом и в доказательство вынул из бумажника визитную карточку «В. А. Сологуб» с графской короной, причем эта корона и заглавные буквы были сделаны самым бесцензурным манером. Этих карточек целую пачку нарисовал мне в Воронеже, литографировал и подарил служивший тогда со мной актер Вязовский. Одна из них попала к Правдину, и даже во время немецкой войны, както при встрече он сказал мне:
— А твою карточку, Сологуб, до сего времени храню! Итак я стал Сологубом и в воскресенье играл Швейцера. Труппа была дружная, все милые, милые люди. Далматов так и носился со мной. Хотя я нанял квартирку в две комнатки недалеко от театра, даже потом завел двух собак, щенками подобранных на улице, Дуньку и Зулуса, а с Далматовым не расставался и зачастую ночевал у него. Посредине сцены я устроил себе для развлечения трапецию, которая поднималась только во время спектакля, а остальное время болталась над сценой, и я поминутно давал на ней акробатические представления, часто мешая репетировать — и никто не смел мне замечание сделать — может быть потому, что я за сезон набил такую мускулатуру, что подступиться было рискованно.
Я пользовался общей любовью и, конечно, никогда ни с кем не ссорился, кроме единственного случая за все время, когда одного франта резонера, пытавшегося совратить с пути молоденькую актрису, я отвел в сторону и прочитал ему такую нотацию, с некоторым обещанием, что на другой день он не явился в театр, послал отказ и уехал из Пензы…
Играл я вторые роли, играл все, что дают, добросовестно исполнял их и был, кроме того, помощником режиссера. Пьесы ставились наскоро, с двух, редко с трех репетиций, иногда считая в это число и считку. В неделю приходилось разучивать две, а то и три роли.
Жилось спокойно и весело, а после войны и моей бродяжной жизни я жил роскошно, как никогда до того времени не жил.
Вспоминается мне мой бенефис. Выпустил Далматов за неделю анонс о моем бенефисе, преподнес мне пачку роскошно напечатанных маленьких программ, что делалось тогда редко, и предложил, по обычаю местному, объехать меценатов и пригласить всех, начиная с губернатора, у которого я по поручению Далматова уже режиссировал домашний спектакль.
И вот, после анонса, дней за пять до бенефиса, облекся я, сняв черкеску, в черную пару, нанял лучшего лихача, единственного на всю Пензу, Ивана Никитина, и с программами и книжкой билетов, уж не в «удобке», а в коляске, отправился, скрепя сердце, первым делом к губернатору. Тут мне посчастливилось в подъезде встретить Лидию Арсеньевну…