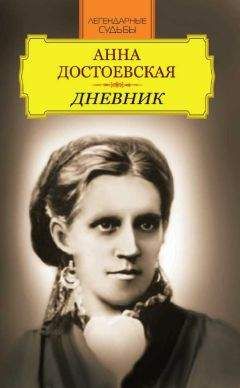Марк Слоним - Три любви Достоевского
Анна Григорьевна во все эти тонкости не входила, ее всё на Западе занимало, она вела себя усердной туристкой, ходила по музеям, осматривала достопримечательности, делала заметки, и Достоевского забавляло и радовало это школьное прилежание: ей всё интересно, значит, не будет скучать, покамест он работает или пишет длиннейшие письма друзьям в Россию о новых литературных планах. И только прятал в усы снисходительную улыбку старшего, когда она углублялась в путеводители и каталоги: чем бы дитя ни тешилось!..
«В характере Анны Григорьевны, – пишет он Майкову, – оказалось решительное антикварство, и это для меня мило и забавно. Для нее, например, целое занятие пойти осматривать какую-нибудь глупую ратушу, записывать, описывать ее».
Вообще, его умиляло, что она такая простая и непретенциозная. У Анны Григорьевны были привычки мелкобуржуазной, почти мещанской среды, хотя по паспорту она и принадлежала к дворянству, – и это создавало между ними общность социального уровня. Она была скромной и тихой девушкой, и в детстве и юности не знала шумных развлечений. Событий в ее семье почти не происходило, и она была невзыскательна, мало видела, мало где бывала. Когда, по окончании «Игрока», Федор Михайлович захотел отпраздновать это событие обедом в ресторане вместе с Майковым, Милюковым, Страховым и пригласил свою стенографистку, она не решилась пойти: никогда в жизни не была в ресторане и стеснялась показаться в таком месте, да еще с незнакомыми людьми. Ее образ жизни и образ мыслей, манеры и навыки, одежда и вкусы – всё выдавало в ней девушку из небогатой чиновничьей семьи с петербургской окраины. В ней было немало провинциализма, и Достоевскому это очень нравилось. О том, что в нем самом была мещанская складка, отлично знали его близкие – хотя особенность эта и поражала тех кто впервые с ним встречался и рисовали себе его каким-то сверхчеловеком. Умная и наблюдательная Е. Штакеншнейдер, горячая поклонница Достоевского (он часто бывал в ее доме в конце своей жизни), писала:
«Многие, со страхом подходя к нему, не видят, как много в нем мещанского. Не пошлого, нет, пошлым он никогда не бывает, и пошлого в нем нет, но он мещанин. Да, мещанин! Не дворянин, не семинарист, не купец, не человек случайный, вроде художника или ученого, а именно мещанин. И вот этот мещанин – глубочайший мыслитель и гениальный писатель».
Он был им по всем своим бытовым склонностям и привычкам, по любви к известному распорядку ежедневного существования, по самым своим недостаткам, на которые он сам и жаловался: «Я не имею жеста и формы». Причины лежали, конечно, в воспитании, обстановке его детства и всех обстоятельствах последующей жизни, а также в его постоянной финансовой зависимости от других. В манерах и словах людей, привыкших с ранних лет свободно распоряжаться деньгами и легко их тратить, неизменно ощущается бессознательная самоуверенность. Даже если они по характеру и не властны и не агрессивны, они твердо ступают по земле, и на этом в значительной мере основаны и их вежливость, и их барство. У Достоевского, этого чернорабочего от литературы, вечно обремененного долгами, занимавшего направо и налево по пятьдесят рублей, не зная, что принесет завтрашний день, и заранее обреченного на просьбы и унижения, не было ни барства, ни легкости, ни самоуверенности, а его идеал «хорошей» и «богатой» жизни не шел дальше мещанской обеспеченности: квартира в четыре комнаты (в те времена для интеллигентов это было очень скромно), довольно безобразная мебель с Гостиного двора в рассрочку, диван-тахта, покрытый ковровым одеялом, в кабинете и вазочки и две олеографии в гостиной. Достоевский страдал от своего дурного вкуса, от своей неловкости в обществе, от своей обидчивости и мелкого самолюбия. Он завидовал «хозяевам жизни», как Тургенев или Григорович, и не любил их именно за барство, за светскость, за хорошо повязанный галстук, за отшлифованную речь, за свободу, с какой они могли расходовать тысячи и писать, о чем и как вздумается. Его многочисленные ссоры с современниками частично объясняются его плебейскими замашками, его ущемленным самолюбием просителя и бедняка. Всё доставалось ему с трудом: даже гонорар, следуемый из журналов, приходилось не только спрашивать, но и выпрашивать, почти вымаливать, и делал он это в захлебывающемся, «хамском» стиле Мармеладовых и Лебедевых: письма его на эту тему до сих пор неприятно читать.
В конце своей жизни Достоевский виделся и с великими князьями, и с вельможами, но и во дворце и в аристократических салонах чувствовал себя неуютно и держался, как медведь. Он искренне ненавидел приемы, банкеты, выходы в свет: больше всего он любил сидеть в жарко натопленной комнате, пить чай с вареньем и читать жене вслух какой-нибудь исторический роман.
Марья Димитриевна мечтала о гостях, роли в обществе и званых обедах, и даже с ней Достоевский не чувствовал себя в безопасности и оставался на положении мужа, не давшего жене того, что она заслуживала. Аполлинария тоже хотела блистать и бывать. Не то получилось с Анной Григорьевной. У нее не замечалось никаких стремлений вести светскую жизнь, она отнюдь не желала «вращаться» в обществе, у нее от этого вращения голова кружилась и делалось тошно, как и Достоевскому. В этом они удивительно подходили друг к другу. С нею ему нечего было тревожиться: она искала, как и он, мещанского счастья, и туфли и халат мужа принимала не как умаление его достоинства, а нечто вполне естественное – другого и быть не могло. И она вполне разделяла его маленькие радости: воскресная прогулка и пирог к обеду, вечером самовар у круглого стола, неугасимая лампада перед киотом в спальной, зимой ему – волчья шуба, ей – ротонда на лисьем меху.
Анна Григорьевна была застенчива и только наедине с мужем делалась бойкой и проявляла то, что он называл ее «скоропалительностью». Он это понимал и ценил: сам был робок, смущался с чужими людьми и тоже не испытывал никакого стеснения только наедине с женой, – не то, что с Панаевой, Марьей Димитриевной или Аполлинарией. Ее молодость, неопытность и мещанская складка действовали на него успокоительно, обнадеживали и рассеивали его комплексы неполноценности и самоунижения. Он был подвержен настоящим припадкам меланхолии, и после вспышек честолюбия и гордости, когда он кричал, что только будущие поколения оценят его романы, у него наступали мучительные периоды депрессии и неверия. Тогда он буквально ненавидел себя. Он со злобой смотрел на свои руки с выступавшими на них венами и желтыми пятнышками, на грудь, поросшую волосами, на тело, доставлявшее столько неприятностей болями, недугами, желаниями, всей своей особой, самостоятельной жизнью, так мешавшей уму и духовности. И оно было обречено на разложение в могильной тьме, на то, чтобы стать пищей червей, а вечность представлялась, как душная тесная баня с пауками. Он задыхался от ужаса, от сознания собственного ничтожества, от страха смерти. Мало кто знал, как нуждался он в эти минуты в ласковом слове, в тепле женской руки; присутствие молодого любящего существа рассеивало все кошмары. А похвала или намек на одобрение помогали ему воспрянуть духом и побороть угрюмость и пессимизм. Судьба чересчур часто и больно била его, в своей мнительности он всегда ожидал неудачи и неприятностей. А Анна Григорьевна в него искренне верила, и это с первого дня их знакомства было написано на ее лице и выражалось во всех ее речах и поступках: она смотрела на него снизу вверх и даже если и не соглашалась со всеми его суждениями, безусловно признавала их важность и ценность. Ей и в голову не могло прийти сомнение в его превосходстве. Она могла поссориться с ним, потому что не соглашалась с его оценками, так, например, он обвинял женщин в отсутствии выдержки в достижении раз поставленной цели, а Анна Григорьевна, в доказательство его неправоты, решила собирать коллекцию марок и выполнила свое намерение в течение ряда лет. Он ругал молодежь за неряшливость и напускную грубость, а она считала себя шестидесятницей и горячо защищала своих современников. Они ссорились и по пустякам и, поругавшись, решали друг с другом не разговаривать, но долго не выдерживали и мирились. Он кипел и выкипал быстро, бури его проходили без следа и он забывал о них. Она тоже обижалась и прощала с легкостью. Когда они приехали в Берлин, он вдруг раскритиковал ее наряд, сказал, что она не по сезону одета и перчатки у нее дурные, она очень обиделась, на улице ушла от него, а потом испугалась, что из-за этого произойдет катастрофа – но, встретившись с ним позже, увидала, что он уже забыл обо всей размолвке. Бывали дни, когда он в раздражительности бранил ее и даже кричал в сердцах: отчего посмотрела на проходившего молодого человека, зацепила зонтиком немца в ресторане, вот неуклюжая, не то сказала кельнеру, отчего не подумала купить масло к чаю! Она всё это сносила и в Дрездене решила не подавать виду, что ей больно, и иногда плакала тихонько, в одиночку. Супружеские трения она принимала, как неизбежное зло. Она вообще всё в нем принимала безропотно, и этот ее несколько наивный и простой подход обезоруживал и умилял Достоевского: к концу их пребывания за границей они уже ссорились гораздо реже, и ему с Анной Григорьевной стало легко и свободно. Она ему «покорялась», признавая его безграничный авторитет решительно во всём, включая выбор нарядов и шляпок, что ему особенно нравилось, но это не было слепое подчинение. Она вовсе не была тряпкой или ничтожеством. У нее имелась совершенно определенная, с годами развившаяся индивидуальность, у нее был твердый и самостоятельный характер и решительность – несмотря на мягкость, податливость и некоторую наивность. Много лет спустя, после его смерти, объясняя самой себе секрет успеха их брачной жизни, она правильно заметила, что дружба часто основана на противоречиях, а не на сходстве, и привела себя в пример: она и Достоевский были людьми разной конструкции и душевного строя; но она не впутывалась в его психологию, не вмешивалась в его внутреннюю жизнь, она не желала «влиять и исправлять» – обычная ошибка женщин с их мужьями и любовниками, – и это «невмешательство» внушало ему доверие к ней, усиливало его чувство свободы. И в то же время он знал, что она – его друг, на нее можно было всегда во всём положиться, она не выдаст, не обманет, не продаст, не уколет, не насмеется исподтишка. На этом двойном фундаменте невмешательства и свободного доверия и укрепилось их семейное счастье. После истерик Марьи Димитриевны и повелительных поз Аполлинарии, Достоевский с восторгом приветствовал «нейтралитет» Анны Григорьевны: она, по крайней мере, не стремилась ни указывать, ни верховодить, ни играть. Когда они поженились, она была молоденькой, не слишком развитой, средней девушкой, ничем не замечательной, но обладавшей живым умом и безошибочным чутьем по отношению к Достоевскому. В течение четырнадцати лет совместной жизни и ум, и развитие ее, и чутье, и знание мужа, конечно, необычайно усилились. Она преклонялась перед Достоевским, как перед писателем, но в первый год брака еще не знала размеров его гения, а брала то, что всякому было ясно: известный романист, большой, может быть великий – и только впоследствии правильно его угадала – тогда, когда современники еще колебались (ведь полное признание он получил и в России, и на Западе после смерти). Этот рост ее понимания и уважения очень радовал Достоевского: он всё время рос в ее глазах. Обыкновенно, в браке близко узнают недостатки друг друга, и поэтому возникает легкое разочарование. У Достоевских, наоборот, от близости раскрылись лучшие стороны их натуры, и Анна Григорьевна, полюбившая и вышедшая замуж за автора «Игрока», увидала, что он совершенно необыкновенный, гениальный, страшный, трудный, а он, женившийся на усердной секретарше, открыл, что не только он «покровитель и защитник юного существа», но она его «ангел-хранитель», и друг, и опора.