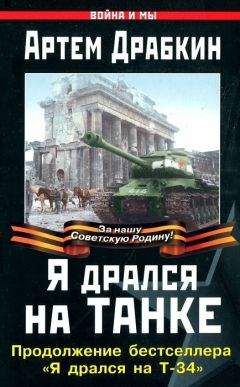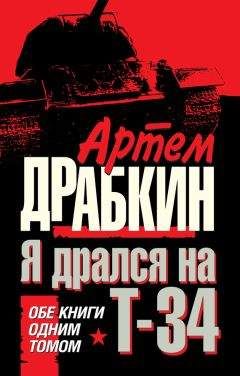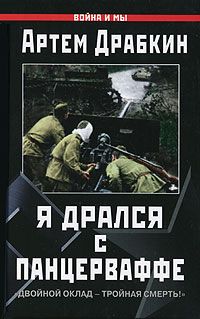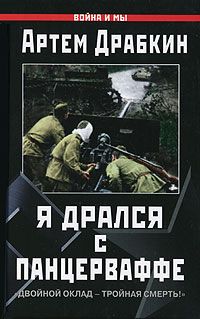Артем Драбкин - Я дрался на Т-34. Третья книга
– Как местное татарское население встречало бойцов Красной Армии?
О том, что большинство татарского населения в Крыму поддерживало немцев, мы узнали от партизан, а до этого я только слышал от ребят, воевавших в Крыму в 1942 году, что татары к красноармейцам относились негативно, но значения этим словам не придавал.
И что получилось? Веду колонну танков к Севастополю, на пути татарская деревня. Спрашиваю у одного местного жителя дорогу – как лучше и быстрее проехать, он мне рукой показывает направление. И надо было его взять с собой, посадить в коляску мотоцикла, а я этого не сделал. Поехали дальше, а эта «дорога» постепенно переходит в узкую горную тропу… За моей спиной батальон танков, которым там не развернуться, а за задержку с выводом колонны в указанную точку, на исходные позиции, меня запросто могли отдать под трибунал… Но тогда все обошлось…
Захватываем другую татарскую деревню, где танкисты поймали не успевшего сбежать местного полицая и сразу его повесили на столбе, а утром проснулись, а в петле вместо трупа полицая уже висит наш боец… Из Севастополя 202-ю бригаду отвели на отдых в татарское село, нас распределили на постой по домам, и я попал на ночевку в дом к одному старику-татарину, который выглядел славным человеком, обычным сельским тружеником. Старик накормил нас от всей души, показывал фотографию своего сына, который служил еще до войны матросом на Балтийском флоте. Утром просыпаюсь, слышу, как корова мычит, а в доме никого нет. Оказывается, ночью всех татар из села выселили пограничники, а я даже на шум не проснулся…
– Давайте перейдем к «стандартным и общим» вопросам. Как вы оцениваете роль политработников в танковых частях?
А тут мне долго не надо думать над ответом. По моему личному мнению, в танковых частях политработники были «лишним балластом», толку от них не было никакого.
Для поддержания дисциплины в бригаде хватало одного заместителя комбрига по строевой части – «старпома на корабле».
В тех танковых бригадах, в которых мне довелось служить, политработники танковых батальонов в атаки в составе экипажей не ходили! Точка… Один-единственный раз, в конце сорок второго года, в наступлении на Сычевку, о котором я вам уже рассказывал, я увидел, как бригадные политруки пошли вместе с танкистами в бой. В штабе перед наступлением они выпили грамм по двести с гаком, посмотрели, как танки сразу двух корпусов своей стальной армадой изготовились к атаке на исходных позициях, и, видимо, настолько уверовали, что такой силищей мы всем немцам быстро кишки на траки намотаем, что, подогретые водкой и общим наступательным порывом, наши политработники и несколько штабистов по своей воле вскочили на броню танков и вместе с танкодесантниками поехали с нами в атаку. Но немцы весь танковый десант быстро покрошили пулеметным и орудийным огнем, я потом из этой группы никого в штабе не видел, скорее всего, они все полегли на поле боя… Там перед наступлением действительно был такой мощный массовый душевный порыв разбить врага, что, наверное, последний обозник из хозвзвода прибежал бы с винтовкой в первую цепь и пошел бы в атаку…
В мотострелковом батальоне бригады были свои комиссары, которые шли в атаку по своей должности, им иначе было никак нельзя. А в танковых ротах и батальонах нам политрук толкнет «зажигательную речь перед боем» – потом мы в атаку идем погибать, а он в бригадный тыл, обедать. Все уже поделено, кому сегодня помирать, а кому газету в штабной избе почитывать. Как можно было верить таким людям? Это же был верх лицемерия!
Я стараюсь выразить свое личное мнение беспристрастно, не оглядываясь на свой печальный опыт общения с комиссарами, с такими типами, как Черный, Костенко и Калугин, но хоть бы раз кто-то из политруков в своих «беседах» с танкистами прямо и открыто сказал: «Мы воюем с сильным, хорошо подготовленным, стойким, опытным и жестоким врагом…» Так нет, им такие слова нельзя было произносить, во всех этих политбеседах обязательно присутствовали нотки шапкозакидательства, мол, немцы все «дебилы и недоноски», да мы их в следующий раз одной левой и так сделаем и этак, под «руководством великого мудрого вождя всех народов»…
Я на фронте вступил в кандидаты ВКП (б). Пришли из политотдела к танкистам и сказали: «Пишите всей ротой заявления на прием в партию: хочу в бой идти коммунистом!» И куда деваться? Откажешься, сразу начнут копаться в личном деле, а там «полный набор»: и отец был под следствием по 58-й статье, и дед – «далеко не пролетарий». Я и написал…
– Наличие «особистов» в танковой бригаде как-то влияло на боевой настрой личного состава?
«Особисты» себя сильно не «акцентировали» в танковых бригадах, я по крайней мере с ними на войне столкнулся всего один раз. У нас стрелок-радист танка, находясь не в боевой обстановке, без приказа включил танковую рацию, вышел с кем-то на связь и якобы что-то передал по рации. Сразу пришли два особиста, один из них был в звании старшего лейтенанта, и арестовали его, но что там было дальше, я не помню. Простые танкисты панического страха перед особистами не испытывали, а самые отчаянные лейтенанты могли их просто ко всем матерям послать, сами подумайте – ну что они могли нам сделать, если мы и так уже считали себя смертниками и наша судьба заранее предопределена свыше – сгореть в очередной танковой атаке. Но чем дальше от передовой, тем более чувствовалось, что «эти» товарищи «не дремлют, бдят»… Показательных расстрелов у нас в бригаде не было, случаев явной трусости в бою тоже не припомню, так что у нас смершевцам особо негде было развернуться.
Тот факт, что чекисты моего отца сажали в 1937 году, я им в душе не припоминал, но есть одна вещь, которую нельзя простить энкавэдэшникам. Благодаря этим чекистам психология людей была деформирована, атмосфера всеобщего тотального доносительства уже после войны стала вообще «правилом хорошего тона», «нормой жизни». «Стучали» на своих товарищей не только ради должностей, званий, а уже просто так, «по зову сердца»…
Вот вам два примера. На последнем курсе учебы в Академии БТ и МВ нас послали на преддипломную практику и подготовку дипломного проекта, которая могла продлиться до полугода. Меня направили в Ленинград, на Кировский завод, и со мной вместе поехал в Ленинград на практику один из наших офицеров, Киселевский. Я-то сам питерский и сказал Киселевскому: «Ну что ты будешь мыкаться в заводском общежитии, живи у нас, в нашей квартире».
Дома показал ему семейную коллекцию марок, среди которых советских было мало, сплошь заграничные марки. Закончилась практика, вернулись в Москву, а потом узнаю, что Киселевский на меня донос накатал «особисту» академии, доложил, что Бараш – «космополит», имеет коллекцию заграничных марок и, видимо, держит связь с «за бугром». Этому доносу не дали ход, мы уже выпускались в войска. Получаю распределение в ЛВО, но мой однокурсник по фамилии Золотой стал меня слезно упрашивать, чтобы я поменялся с ним распределением, так как ему в Ленинграде есть где жить с семьей и маленьким ребенком, а если его зашлют «в Тмутаракань», то он будет маяться по съемным углам. Мне было все равно, где служить, я с ним поменялся, и в Москве мне дали новое назначение, еще лучше прежнего – в ОГСВГ, в Германию. Я стал служить в Берлине в городской военной комендатуре, в отделе автотранспорта города.