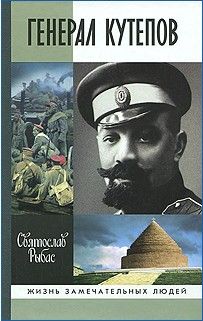Святослав Рыбас - Русский крест
- Ничего, наши не оставят, - утешал товарища Пауль. - Наш Бог терпеливый да не забывчивый.
- Гады! - ругался Гридасов. - Что мы им сделали? За что нас так унижать?
- Наши не оставят, - повторил Пауль.
Вдруг послышалось родное "ура!". Как чудо неслыханное в турецком городишке гремело многоголосое "ра-ра-ра!"
Забегали в комендатуре.
- Рюс-казак! - донеслась до арестованных.
Побегали - и стихло.
Затем ворвались с улицы. Родной язык, шумят, ищут.
- Мы здесь! - крикнул Пауль.
Юнкера Константиновского училища, две роты, юные, семнадцати восемнадцатилетние, с винтовками - смеются, рады, что без выстрела вышибли сенегалов.
- Господин капитан, вы ранены?
- Нет, юнкер. Чуть зацепило. Мы так просто им не дались...
- Господа, здесь трофеи - два пулемета!..
- Господа, давайте на стенке что-нибудь напишем на память..."Бородино", как?
- Бородино! Давай! Пиши!.. "Скажи-ка, дядя, ведь недаром..."
- "... Москва, спаленная пожаром..."
- "... французу отдана".
- Ты что, братец?! - вдруг воскликнул Гридасов. - Что ты, милый?
По щеке юноши текла слеза. Гридасов обнял его за плечи и сказал:
- Не горюй, юнкер, выстоит наша Москва, лишь бы мы ее помнили.
Но в глазах капитана тоже заблестело, он тряхнул головой, в его покрытом засохшей бурой кровью лице промелькнуло горькое горе.
Юнкера написали на стене всего несколько слов, и раздалась команда выходить строиться.
Осталось во французской комендатуре только начало лермонтовского стихотворения.
Гридасова и Пауля доставили в штаб корпуса, размещавшегося здесь же в Галлиполи, в двухэтажном доме (низ каменный, верх деревянный). Событие было большое: как-никак открытое столкновение с союзниками и успех! Кутепов вышел посмотреть на освобожденных, узнал Пауля по его страшной отметине. Да и как его можно было не узнать?
- Что делали на базаре? Пьянствовали? - спросил Кутепов.
Отвечал Гридасов, объяснил, что не пьянствовали, а возвращались из порта, где работали на разгрузке.
- За что были арестованы?
- Мы песню запели, ваше превосходительство.
- Вы что, певцы?.. А коль запели, почему дали себя арестовать?
- Разрешите, ваше превосходительство! - сказал Пауль. - Нас арестовали силой.
- Вас мог арестовать только наш патруль! - сердито произнес Кутепов. Офицеры молчали.
- Что пели? - спросил генерал.
- "Полно вам, снежочки, на талой земле лежать", - ответил Пауль.
- Дальше как?
- "Полно вам, ребятушки, горе горевать..."
- Ну!
Пауль вполголоса стал напевать:
Оставим тоску во темном леску,
Станем привыкать к грузинским горам,
К чеченским местам,
Станем забывать...
Гридасов сверкнул глазами, подхватил:
... отца, матерю, жену,
С девками, с молодками полно пить-гулять,
Перины, подушки пора нам забывать...
Кутепов перебил с усмешкой:
- Знаю, хорошо... Заслуживаете гауптвахты. Как, юнкера? - Он посмотрел на юнкеров. - Чтоб не давались сережам?!
Константиновны не отвечали. Кутепов понял, что они думают, махнул рукой.
- Ладно! Без гауптвахты. Надеюсь, впредь не повторится.
Юнкера вздохнули с облегчением, раздались возгласы:
- Не повторится!.. Пусть попробуют тронуть!
Кутепов только пригрозил, но отпустил с миром. Этот муж не собирался снисходить до человеческого чувства.
И все же Пауль и Гридасов возвращались в лагерь в приподнятом настроении. Удаляясь от командующего, они впервые испытывали не униженность беженца, а защищенность воина, принадлежащего к армии.
Возле развалин древнего амфитеатра, на стенах которого росли кривые сосны, встретились им два сенегала. Гридасов остановился, вперившись в них.
- Карашо! - крикнул один сенегал. - Рюс, фрасе, сенегал - карашо, якши!
Второй замахал рукой.
- Заразы! - выругался капитан. - Ну то-то же.
Вскоре они еще встретили партию русских, расширявших грунтовую дорогу, остановили перекурить и рассказали о своем приключении.
- Чему радуетесь? - вдруг раздраженно спросил вольноопределяющийся с белыми погонами Технического полка. - Не навоевались?
Он не стал разговаривать, сразу отошел. Зато другие были довольны командующим и константиновцами, хотя обычно имя Кутепова не вызывало одобрения.
А что, и вправду кто-то не навоевался? Нет, винтовка обрыдла, и хотелось покоя.
Кроме разных работ, велись в Корпусе ежедневные пятичасовые занятия строевые и словесные, готовились к параду. Парад в лагере мыслился как вызов судьбе. И все были подчинены единой воле, одному желанию - восстановить боеспособную армию, спасти людей от французского концлагеря.
Опустошенные злостью и безверием души постепенно втягивались в новую трудную работу. По вечерам сходились в офицерских собраниях, делали выпуски устных газет, пели. Особенно любили "Разбойника Кудеяра", видели в словах песни намек на нынешнюю жизнь,
Жили двенадцать разбойников,
Жил Кудеяр-атаман,
Много разбойники пролили
Крови честных христиан.
Мотив покаяния, поиска прощения у Господа явственно звучал в пении офицеров. С песнями возвращалась оставленная родина. Казалось, больше не в чем было искать опору. В душе у каждого горел какой-то мрачный огонек надежды, связанной с далекой Россией. Этот огонек требовал чистоты и давал силу выдержать тяжелые работы.
В порту, на строительстве шоссе и узкоколейной железной дороги, на ремонте и утеплении полуразрушенных домов - всюду, где работали русские, всюду поддерживался странный, возвышенный порядок - чувствовалось, что этим людям тяжело, что они находятся на распутье и что подчиняются не только воинскому закону. Они были заряжены готовностью и творить милосердие, и драться.
Во всяком случае французы перестали высылать в город свои патрули, чтобы избежать столкновений с русскими, а порядок в Голлиполи стал поддерживать Первый корпус.
С началом декабря население города выросло вдвое - прибыли последние части, военные учреждения, офицерские семьи. Лагерь в Голом поле не мог вместить всех. Женщины и дети селились в дома без окон и дверей, без печей, с полусгнившими полами и крышами. Зимние северо-восточные ветры продували эти дома насквозь, гасили огоньки каганцов и уносили жалкий жар теплящихся в мангалах углей.
Кутепову доложили о болезнях детей и женщин, он обратился к французам за строительными материалами - и к греческому мэру - за хлебом для вознаграждения русских рабочих. Французы ничего не дали, а греки, хоть и сочувствовали, тоже не смогли собрать необходимого продовольствия.
Изредка в русские семьи приходили местные старухи, желтолицые турчанки и гречанки, молча копались в скарбе, уходили и возвращались кто с миской, кто с кастрюлей.