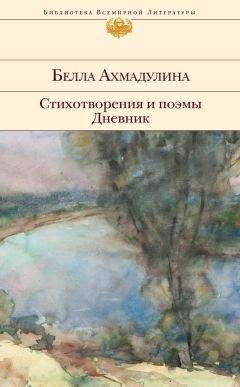Белла Ахмадулина - Миг бытия
Более всего дивилась я несметному обилию красавиц, они словно сговорились с красою дня стать ровней ему, си ять, блистать и мерцать соцветно и созвучно солнцу сквозь нежную зыбкую промозглость (почему-то подумалось: венецианскую), листве, листопаду, влаге асфальта цвета каналов. Вдруг сильно смерклось, Тинторетто проведал Москву, во мгле его привета явилось, полыхнуло — это были розы цветочного рынка возле упомянутой станции метро. Барышня, ведавшая растениями, предводительница их, юная Флора, в расточительный добавок к удачам и прибылям того моего дня, разумеется, тоже была красавица, я простодушно сообщила ей эту, ведомую ей не-новость: здравые солидные господа, останавливающие автомобили вблизи благовонной торговли для скорого подарка своим избранницам, останавливали на ней многоопытный, не марающий её, взор. Сначала этот оранжевый Рафинад с чернокудрым мальчиком, потом Рафаэль, Венеция, Тинторетто, — я не удивилась, когда прелестная цветочница, с глазами, превосходящими длиной тонкие пределы висков, объяснила мне, что редкий сорт этих роз именуется: «Рафаэлло». Девочка была ещё и великодушна: она застенчиво и бескорыстно приглашала меня приобрести хотя бы одну из этих роз, несомненно причиняющих душе целебную радость и пользу. Я не усомнилась в её словах, совершенно доверилась им и сказала, что непременно приду за розами 28 числа, в понедельник.
Я медленно шла по проспекту, удаляясь от Ленинграда и Петербурга, от дня нечаянной радости, приближаясь к Тверской, к 28 дню октября, чая радости для героини торжественного дня, знаменитой героини эпохи немого кино, всей нашей многосложной и многословной эпохи, героини судьбы своей и большого достославного семейства. Пастернак: «…Быть женщиной — великий шаг, / Сводить с ума — геройство». Ей поклонялись, называли дочерей её именем (я встречала таковых), её рисовали Фонвизин, Тышлер и другие художники, поэты посвящали ей стихи (я в их числе). По роду моих занятий всегда и всю эту ночь напролёт я склонялась пред высокой красотой, служила ей и, думая об Анели, твёрдо знаю: красота не проходит, этот хрупкий каркас прочен и долговечен, этот дар неотъемлем. Самовольно наведались в уже утреннюю страницу строки из давнего стихотворения «Роза»:
…Знай, я полушки ломаной не дам
за бледность черт, чья быстротечна участь.
Я красоту люблю, как всякий дар,
за прочный позвоночник, за живучесть…
В росе ресниц, прельстительно живой,
будь, роза роз! Ивой подвиг долговечен.
Как соразмерно мощный стебель твой
прелестно малой головой увенчан…
Дорогая Анель, примите, пожалуйста, эти слова и эти розы.
Ваша Белла Ахмадулина 19963
Скука летних дней в барской усадьбе[36]
Как любил он прежде встречать в серебряном стекле своё пригожее нарядное лицо: кровь с молоком в благородной пропорции, приятная плавность линий и оранжерейные усы драгоценного отлива. Пиза красиво помещены чуть навыкате, в стороне от ума, не питающего их явным притоком, — светлые, бесхитростные таза, надобные для зрения и общей миловидности, а не дм того, чтобы угнетать наблюдателя чрезмерным значением взора. (О глазах другого и противоположного устройства, и поныне опаляющих воображение человечества, когда-то сделал он следующую запись: «Свои глаза устанут гоняться за его взглядом, который ни на секунду не останавливался ни на одном предмете. Чтобы дать хотя приблизительное понятие об общем впечатлении этого неуловимого взгляда, сравнил, его можно только с механикой на картинах волшебного фонаря, где таким образом передвигаются глаза у зверей».)
Один лишь маленький изъян мог он предполагать в своих чертах — это грубоватость их предыстории, винные откупы обожаемого батюшки — и тот легко восполнялся напуском барственного выражения и склонностью к шёлковым и бархатным материям глубоких патрицианских тонов.
Некоторые, особенно счастливые, свои отражения помнил он до сих пор. Однажды, по выпуске из юнкерской школы, угорев от офицерской пирушки, ища прохлады, воли и другого какого-то счастья, толкнул он наугад дверь и увидел прямо перед собой свое прельстительно молодое лицо, локон, припотевший к виску, сильную, жадную до воздуха шею — всё это в отчётливом многозначительном ореоле. Стоял и смотрел, покуда судьба, рыщущая в белых сумерках, не приметила молодца для будущей важной надобности. И ещё в Киеве, зимой, в самую острую пору его жизни, поднимался по лестнице меж огнедышащих канделябров и на округлом повороте резко, наотмашь отразился в упоительном стекле: впервые немолодой, близкий к тридцатому году, бережно несущий на отлогом челе мету неутолимой скорби, но, как никогда, статный, вольготный и готовый к любви. Именно таким сейчас, сейчас увидит его бал, разом повернувший к нему все головы, и выпорхнет картавый польский голосок, обмирающий от смеха и от страха: шутка ли примерить к себе прицел этих ужасных прекрасных поцелуйных усов! Но ещё половина лестницы оставалась ему, и выше крайней её ступени ничего не будет в его жизни — то была вершина его дней, его Эльборус, а далее долгий медленный спад, склон, спуск к скуке этого лета.
Его туалетный стол по-прежнему был обставлен с капризным дамским комфортом, но зеркало, окаймлённое тяжёлым серебром, изображающим охотничьи игры Дианы, уже не приносило радости. И не в старении его было дело! Батюшка в этом возрасте был хотя и почтенный, но бодрый, резвый человек, в свободную минуту пускавшийся шалить с маленькими дочерьми и сыновьями. Да, видно, вся кровь их износилась и ослабела: брат Михаил не прожил полувека, а сам он в пятьдесят шесть лет замечал в слюне нехороший привкус, словно в душе что-то прокисло.
Отвлёкшись от зеркала, стал он глядеть в окно, но и там ничего хорошего не увидел: висело пустое небо, сиреневые куртины пялили остовы обгоревших на солнце кистей. В стороне от зрения оставались близкое село с церковью, скушные поля, бедный лес. Впрочем, между ним и природой и прежде ничего особенного не происходило, только вершины гор и избыток звёздного неба внушали неприятную робость, схожую с предчувствием недуга, посягающего на непрочную плоть.
Почты он не ждал и не хотел: через её посредство уже допекали его досужие господа, неграмотные в правилах чести, сующие нос в чужие дела, — он содрогался от близости этого развязного чернильного носа, с сомнением принюхивающегося к святыне его порядочности. И козни эти уже достигали других нестойких умов! Недавно в Москве представляли ему молодого человека, нуждающегося в ободрении, — он было хотел его приветить, да вдруг через протянутую руку почувствовал, как того передёрнуло от плеча к плечу, так что руки их разорвались, при этом несбывшийся протеже побледнел, словно от смерти.