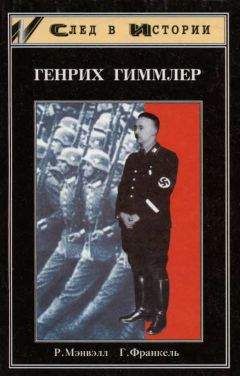Николай Капченко - Политическая биография Сталина. Том III (1939 – 1953).
Чтобы еще более умилостивить своего гостя, Сталин весьма одобрительно высказался о манере вести переговоры японского министра. Далее в записи беседы зафиксировано: «т. Сталин говорит, что он с удовольствием слушал Мацуока, который честно и прямо говорит о том, чего он хочет. С удовольствием слушал потому, что в наше время, и не только в наше время, нечасто встретишь дипломата, который откровенно говорил бы, что у него на душе. Как известно, еще Талейран говорил при Наполеоне, что язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли. Мы, русские большевики, смотрим иначе и думаем, что и на дипломатической арене можно быть искренними и честными»[181].
Оставим на совести вождя его заверения, что большевики в сфере дипломатии всегда проявляли искренность и честность. И хотя афоризм Талейрана и претерпел со временем определенную трансформацию, все же нет достаточных оснований полностью и целиком ставить его под сомнение и считать неким историческим анахронизмом. Дипломатия всегда, в то время в особенности и сегодня в том числе, выступает как средство борьбы за достижение определенных целей, преследуемых государством. Поэтому о безграничной честности и искренности в этой области можно говорить разве что в чисто пожелательном ключе.
В целом переговоры с Японией завершились подписанием в апреле 1941 года договора о нейтралитете. Это явилось одним из серьезных достижений сталинской внешней политики в предвоенный период. Конечно, заключение договора не воспринималось Сталиным как твердая и нерушимая гарантия того, что Япония неизменно будет придерживаться условий, закрепленных в договоре. Ведь совсем не случайно, что во время войны с Германией на Дальнем Востоке были сосредоточены довольно значительные силы нашей армии и флота, готовые к отражению японского нападения. Доверие доверием, а иметь необходимые силы для обороны Дальнего Востока нужно было в любом случае. И, конечно, Токио соблюдал (и только лишь в целом) нейтралитет в отношении Советской России, но душой и телом он был на стороне Германии. И лишь ход войны против немецко-фашистской агрессии явился главной гарантией соблюдения Японией пакта о нейтралитете.
Рассмотрев в данном разделе целый комплекс проблем, связанных с поставленным в заголовке вопросом, полагаю, что мне в той или иной степени удалось убедить читателя в обоснованности своих оценок и выводов. Прекрасно отдаю себе отчет в том, что значительная, если не большая часть исследователей придерживается диаметрально противоположной точки зрения. Ее выразил, в частности, Р. Такер, обобщающий вывод которого я и воспроизвожу: «Сталин похвалялся, что он, дескать, „обвел“ Гитлера. На самом же деле все было наоборот. Своей быстрой победой над Францией Гитлер не только свел к нулю твердую уверенность Сталина, что война на Западе окажется затяжной, а поэтому выгодной для него. Теперь Гитлер перехитрил Сталина, заставив его поверить в свою готовность вступить в сделку, согласно которой они в тандеме станут в той или иной степени господствовать над миром. Сталин, по-видимому, никогда полностью не осознавал силу фанатизма Гитлера и невозможность вести с ним подобные дела. Как вспоминает дочь Сталина, он никогда не переставал сожалеть, что сценарий кондоминиума не осуществился. Уже после войны Сталин продолжал повторять: „Эх, с немцами мы были бы непобедимы!“»[182].
Р. Такер здесь ссылается на свидетельство дочери Сталина С. Аллилуевой. Сами по себе эти высказывания Аллилуевой, возможно, и имеют под собой какую-то почву. Однако они не отражают ни в малейшей степени подлинного отношения Сталина к гитлеровской Германии, и тем более каких-либо иллюзий на предмет сколько-нибудь прочной и длительной договоренности между Советским Союзом и Германией. Все факты достаточно однозначно говорят о том, что советское руководство, и в первую очередь сам Сталин, отдавали отчет в том, что пресловутый пакт с Гитлером – явление временное и недолговечное, что смертельная схватка с нацизмом неотвратима, как смена времен года. И рисовать Сталина этаким простачком в политике, по меньшей мере, неверно.
А именно это вытекает из многочисленных категорических вердиктов, которые выносит С. Аллилуева своему отцу. Она пишет: «Он не угадал и не предвидел, что пакт 1939 года, который он считал своей большой хитростью, будет нарушен еще более хитрым противником. Именно поэтому он был в такой депрессии в самом начале войны. Это был его огромный политический просчет: – „Эх, с немцами мы были бы непобедимы!“ – повторял он, уже когда война была окончена…
Но он никогда не признавал своих ошибок. Это было ему абсолютно несвойственно. Он считал себя непогрешимым и не сомневался в собственной правоте, что бы там ни было. Он считал свое политическое чутье непревзойденным. „Сталина вздумали перехитрить! Смотри-ка, Сталина захотели обмануть!“ – говорил он о самом себе в третьем лице, как бы со стороны наблюдая каких-то жалких людей, которые пытаются провести его. Он не предполагал, что может сам обмануться, и до конца своих дней следил, как бы кто другой не вздумал его коварно обмануть. Это стало его манией…»[183].
В дальнейшем мне еще не раз придется касаться данной проблематики. Здесь же хочу отметить, что у Сталина, конечно, были серьезные просчеты и ошибки в предвоенный период, в том числе и в сфере отношений с Германией. Однако изображать его столь примитивным и доверчивым политиком нет оснований. Еще меньше существует оснований считать, будто он верил в какой-то чуть ли не волшебный союз с нацистами, который по всем реальным историческим параметрам и с учетом реальной мировой обстановки того времени был чисто маниловщиной.
Не стану снова начинать с начала и повторять свои аргументы. Отмечу лишь, что Сталин в изображении Такера выглядит этаким простаком, чуть ли не поверившим в искренность фашистского фюрера. Все поведение Сталина в это время как раз и свидетельствовало о том, что Гитлеру он не доверял, но делал вид, что верит в дружбу с Германией. А под вуалью заверений о дружбе таилось стремление выиграть время для подготовки к большой войне. И что бы ни говорили, часть необходимого времени была выиграна. В этом и состоит ответ на вопрос – кто кого переиграл…
3. Убийство Троцкого: личная месть или политическое возмездие?
Читателя, возможно, шокирует то обстоятельство, что я поместил пассаж об убийстве Троцкого в данную главу: вроде сам этот эпизод не имеет непосредственного отношения к внешней политике Сталина. На первый взгляд, это действительно так. Но если смотреть более широко, то опасения Сталина относительно активизации международной деятельности Троцкого и созданного им Четвертого Интернационала лежали в русле рассуждений о том, что эта деятельность может представлять для страны серьезную опасность в случае войны. И в данном контексте она косвенным образом вписывается в настоящую главу. Далее, я счел необходимым хотя бы самым конспективным образом осветить эту проблему, поскольку оставление вне поля зрения данного события как бы вычеркивает из политической биографии вождя важную страницу – финал его многолетнего противоборства с Троцким.