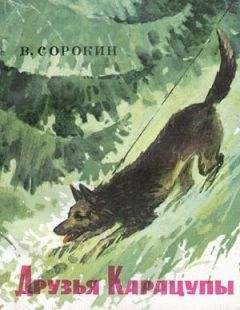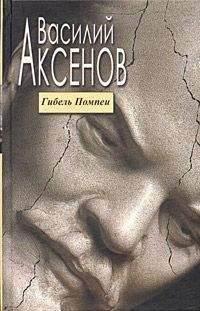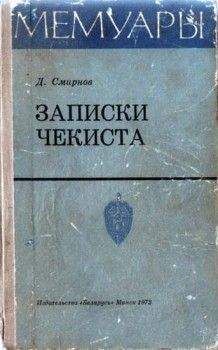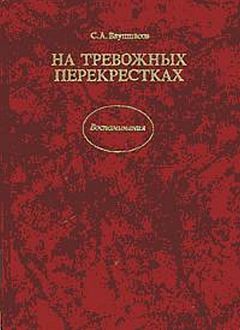Андрей Белый - Книга 1. На рубеже двух столетий
Отец постоянно подчеркивал значение механицизма там, где его невозможно оспаривать; и он с детства приучил меня относиться к механике и к общей физике с достаточным уважением; во всех своих мировоззрительных фазах, когда дело касалось естествознания, я никогда не чувствовал необходимости пробавляться виталистическими, всегда легко в механике разложимыми аллегориями; но я с отрочества из разговоров отца вынес твердую уверенность в том, что объяснить явление в духе механицизма еще не значит объяснить разложенный в механику комплекс, как именно данный комплекс; то есть, переводя на язык спора современных механицистов с деборинцами89, и отец, и я, под его влиянием, строго отделяли сферу механицизма, как зависящего от математического анализа, от других математических дисциплин, анализ включающих, но анализом не исчерпываемых.
Механицисты ставят знак равенства между энного рода движениями и движением внеположным, то есть движением в пространстве; они неправомерно отрицают, например, роль материальных качеств; — поэтому они не в состоянии до конца осмыслить явления химического синтеза; и дать подлинно конкретное направление ряду проблем внутриатомной механики. Сторонники Деборина подчеркивают им это; отец, в одном разрезе механицист, в другом разрезе ярко подчеркивал, что в философии механицизма взята правомерно на учет 1/2 математики; и неправомерно исключен разгляд этой 1/2 математики к другой ее 1/2: анализа к аритмологии; теории непрерывных функций к теории функций прерывных; в сфере прерывных функций он упорно и долго специально работал последние пятнадцать лет как математик90.
Поэтому-то: его математические коррективы шли не от аллегории и аналогии, а от одной части науки к другой части той же науки.
Как математик, он включал в теорию эволюции революционную роль скачка, прерыва, вероятности, качества. Разумеется, эти тонкие методологические примыслы и поправки к некогда ходячим, популяризованным, ползуче неопределенным, ползуче благополучным истинам были неприемлемы для людей ползучего мировоззрения; неприемлемы, ибо — непонятны; непонятны — ибо эти люди отстояли за тридевять земель от философской диалектики, вершин точной науки и теории познания.
Именно московские гуманисты восьмидесятых годов, ехавшие на палочках заемного мировоззрения, стали чужды отцу с той минуты, как он углубился в разбор самих основ этих мировоззрений: и как чистый математик, и как ищущий научной истины философ.
Танеев мог, усмехаясь в розу, подчеркивать смешные стороны кипятящегося отца; но кипятящийся отец имел вовсе не смешную сторону в том, что там, где другие спали, был пробужден.
И этот пробуд и являл его в образе чудака, бегающего с фонарем под солнцем91 и ищущего истинно философствующего.
Углубляясь в отчеты о спорах сегодняшнего дня между Деборинцами и механицистами, я точно возвращаюсь в атмосферу далеких годов, когда отец волновался именно этими вопросами.
Он выдвигал: качественную количественность против только количественноеТM, проблему сведения методологических результатов и разгляд диалектики течения их в комплексе (проблема «языков»).
Он выдвигал значение узловых точек; его не удовлетворял формализм классификационной системы наук, подменяющей каталогом проблемы и подлинной философии, и подлинного развития любой из наук классификационной системы, могущей диалектически сместиться с положенного ей раз навсегда места.
Он постоянно подчеркивал: «Анализ есть только первая ступень в развитии… математических истин. Вот почему анализ развился ранее… Для развития же аритмологии не только нужны все средства анализа, но еще и целый ряд совершенно новых приемов исследования. В этом отношении аритмология есть настоящий арсенал математических методов» (Бугаев: «Математика и научно-философское миросозерцание», стр. 8)92.
Но, работая в этой сфере, нам недоступной, отец искал и популярной формулы своему миру идей, вынашивая ее на основании своего математического, нового опыта («новых… приемов исследования»), моделируемых на ряде поправок к философии Лейбница.
Так он подошел к своей основной качественной количественности, которую назвал неразложимым целым, доказывая, что лейбницева монада93 может соответствовать этому наглядному, упрощенному представлению, которое научно вскрываемо лишь в аритмологии.
«Монадой» своей отец хотел внести корректив к тогдашним спорам идеалистов и реалистов, ибо его монада не материальна в духе Бюхнера и Молешота, а обладает диалектической реальностью, в сфере которой понятие «дух» вырывается у метафизиков, прочитываясь и раскрываясь иначе (имманентно, а не трансцендентно); свое мировоззрение назвал он «эволюционной монадологией», постоянно оговаривая: 1) понятие «монады» раскрываемо им не по Лейбницу; 2) понятие «эволюция» берется им не в стиле Спенсера, которого он так хорошо изучил.
Чем более он врастал в свой математический мир, тем с большим холодом и иронией отзывались на его кипения остановившиеся и ожиревшие витиеватыми фразами его вчерашние друзья, «Веселовские»; он врастал в чисто философские споры и оказался в кружке основателей тогдашнего Психологического общества, куда ходил спорить и проповедовать монадологию; отсюда его укрепившееся знакомство с Лопатиным, с Гротом, с Сергеем Трубецким, его удовлетворявшими лишь в одной грани исканий; он постоянно подчеркивал: они — метафизики, а он — нет.
Считалось, что он дружит с Троицким; дружбы не было; была традиция: подчеркивать эрудицию Троицкого, подчеркивать им свое «да» английскому эмпиризму в пику германскому идеализму.
Троицкий, сидевший под башмаком бойкой жены, был, что называется, «рохлей»; когда-то отец защитил его, поддержал его кандидатуру в профессора, доказывая, что кафедра философии для объективности должна быть представлена не только идеалистом Соловьевым, которого прочили в профессора, но и эмпириком Троицким; но в Троицком он подчеркивал главным образом трудолюбие и знание источников.
Корень дружбы — некогда поддержка, оказанная Троицкому отцом. Помню редкие явления у нас Троицкого и впечатление от него: не то седой ребенок, не то прежде1 временно впавший в детство седоусый муж; удивляло явление Троицкого на именины в форменном фраке и со звездою; у нас было резко отрицательное отношение к «звезде», как явлению нелепому, тягостному и дорогому (за «звезду» вычитали из жалованья).
«Звезда» Троицкого казалась мне неприличием, как… незастегнутые штаны.
![Василий Стенькин - Рассказы чекиста Лаврова [Главы из повести]](/uploads/posts/books/45116/45116.jpg)