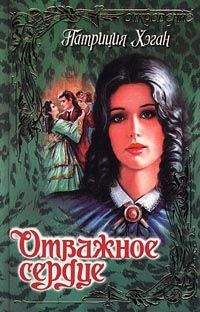Николай Скатов - Некрасов
Есть у Некрасова поражающе прямая связь между посещениями деревни и появлением деревенских стихов, да и вообще стихов. В конце 40-х — начале 50-х годов в стихах ровно ничего не пишется «про народ», «про деревню». Обязанности по журналу мало что объясняют, так как другие стихи пишутся. Традиционные ссылки на «мрачное семилетие» со всяческой цензурной запретительностью тоже не очень убедительны. Скажем, 1847 год еще отнюдь не начало мрачного семилетия, а 1853 год — совсем не его конец. Между тем в 1845 году он около двух месяцев пробыл в деревне. И в 1845— 1846 годах — «Перед дождем», «Огородник», «В дороге», «Псовая охота». После 1845 года наезды в деревню кончились. И — в 1847 году: ничего «деревенского». В 1848-м — ничего («Вино» явно написано в 1853 году, хотя и печатается почему-то, начиная с посмертного издания 1879 года, под 1848 годом). В 1849-м — не было ничего «деревенского», но и вообще ничего. В 1850-м — ничего «деревенского», ибо цикл «На улице», опять-таки сомнительно относимый к этому году, представляет улицу городскую. В 1851 году,также как и в 1852-м,ничего. И вот: весна и лето 1853 года, вновь впервые после восьмилетнего перерыва — деревня: Алешунино, Грешнево... И — «Отрывки из путевых записок графа Гаранского».
Это рассказ о путешествии «по России русского барина, долго жившего за границей» (так было обозначено в первоначальном заглавии). Окончательное название сопровождено подзаголовком по-французски: «Три месяца в отчизне. Опыты в стихах и прозе, сопровождаемые рассуждением о мерах, способствующих развитию нравственных начал в русском народе и естественных богатствах Российского государства. Сочинение россиянина, графа де Гаранского. Восемь томов в четвертую долю листа. Париж. 1836». Написал это по-русски не знавший французского Некрасов,- кое-как перевел плохо знавший французский Чернышевский и отшлифовал прекрасно знавший французский Тургенев.
Подзаголовок сразу придавал повествованию иронический характер. Вообще форма была найдена весьма удачная. Как всегда, ирония с ее непрямым повествованием открывала простор для рассказа двусмысленного, многосмысленного, с видимостью непонимания и скрытым издевательством под маской простодушной доверительности.
Наконец, с нарочитой отстраненностью типа:
Ну, словом, все одно: тот с дворней выезжал
Разбойничать, тот затравил мальчишку, —
Таких рассказов здесь так много я слыхал,
Что скучно, наконец, записывать их в книжку.
Получается, что главная докука здесь не то, что «затравил мальчишку» (вспомним всю патетику рассказа о том же Ивана Карамазова у Достоевского), но то, что вот записывать все это, наконец, «скучно». А фраза «все одно», по видимости, совершенно равнодушно выстраивает такой страшный, бесконечный ряд.
Та же отстраненность:
Но только худо то, что каждый здесь мужик
Дворянский гонор мой, спокойствие и совесть
Безбожно возмущал; одну и ту же повесть
Бормочет каждому негодный их язык:
Помещик — лиходей; а если управитель,
То, верно, — живодер, отъявленный грабитель! и т. д.
Опять как бы раздражение, но не по поводу того, что в «повести», а потому, что она докучна, одна и та же. Эта неопределенность, взаимопереходы смыслов, их игра приводила в некоторое смущение и цензоров. Мешало иной раз определенности приговора, в частности, в устах графа Гаранского литературное и несколько неожиданное заключение:
...А если точно есть
Любители кнута, поборники тиранства,
Которые, забыв гуманность, долг и честь,
Пятнают родину и русское дворянство, —
Чего же медлишь ты, сатиры грозный бич?..
Я книги русские перебирал все лето:
Пустейшая мораль, напыщенная дичь —
И лучшие темны, как стертая монета!
Жаль, дремлет русский ум.
А то чего б верней?
Правительство казнит открытого злодея,
Сатира действует и шире и смелей,
Как пуля, находить виновного умея.
Сатире уж не раз обязана была
Европа (кажется, отчасти и Россия)
Услугой важною...
Действительно, чего бы ради графу Гаранскому разражаться таким литературно-критическим пассажем. Это уже прямо Некрасов. Но какой смысл всего этого? Вера в обличения сатиры? А может быть, обличение такой веры? А может быть, обличение самой сатиры? А может быть, всего скорее, и первое, и второе, и третье. Совсем недавно в стихах «Блажен незлобивый поэт...» наш поэт прямо прославлял поэта-сатирика:
Питая ненавистью грудь,
Уста вооружив сатирой,
Проходит он тернистый путь
С своей карающею лирой.
Но не покажется ли «карающая лира» после рассказов о затравливавших детей живодерах очень уж малой карой, а вооруженность сатирой вооруженностью очень слабой. Действительно ли укротит «любителей кнута» «сатиры грозный бич»? Не горькая ли это ирония по поводу неравноценности такого поэтического бича такому реальному кнуту? Недаром чиновник особых поручений статский советник Волков, готовивший в связи с первым некрасовским сборником стихов особый рапорт для министра народного просвещения А. Норова, писал: «В этих отрывках, между прочим, сказано, что крестьяне наши терпят, по их словам, общую страду, что грустно видеть, как они бледны и слабы! Но что вряд ли мужиков трактуют как свиней... Что, если между помещиками есть тираны, — то зачем же медлит сатиры грозный бич?
Нет сомнения, что автор имел благую цель при сочинении этих отрывков, но едва ли она будет достигнута!.. Надо спросить у крестьян, что скажут они, если кто-нибудь из них прочтет эти отрывки? Наверное, можно предположить, что тот не засмеется! ...а скажет вместе с автором: «Жаль, дремлет русский ум» (стр. 96), — и предлагаемую автором «с а т и р у», пожалуй, примет за другое слово...»
Собственно, в некрасовских «Отрывках» у крестьян испрошено, и это, «другое слово», крестьянином сказано. Именно крестьянином.
Кстати, почти тогда же, во всяком случае, очень вскоре в связи с убийством в декабре 1854 года двумя крепостными жестокого помещика А. Оленина юный и еще никому не ведомый Добролюбов написал стихи «Дума при гробе Оленина». С призывом к мужицкому топору. И вот как зовет к топору отвлеченный высокий демократический (но отнюдь не народный) революционер, и вот как говорит его абстрактный поэтический мужик:
Без малодушия, боязни
Уж раб на барина восстал
И, не страшась позорной казни,
Топор на деспота поднял...
За право собственности личной,
За душу, наконец, он встал.
«Я не товар для вас обычный.
Душа — моя!» — он им сказал.
А вот как говорит у Некрасова, хотя и в поэзии, реальный мужик: