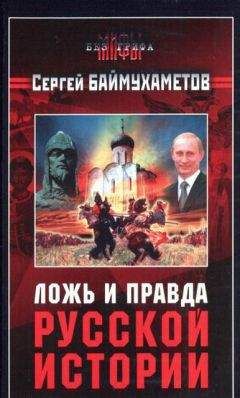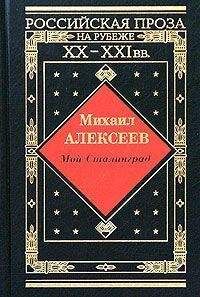Михаил Филин - Мария Волконская: «Утаённая любовь» Пушкина
Взаимные упреки, подозрения, ложь и прочие неблаговидные жесты и поступки, парируемые столь же сомнительными контрударами, — вот из чего по большей части складывались тогдашние отношения Раевских и Волконских. Почтенные семейства, борясь за будущее близких, словно задались целью сызнова разыграть сцены из жизни средневековой Вероны. При этом, как выяснилось впоследствии, кое-кто из Волконских думал летом и осенью 1826 года не столько о счастье декабриста и его семьи, сколько о меркантильных выгодах остающихся.
Старик Раевский в конце июля отправился из Болтышки в Москву и перед отъездом строго-настрого распорядился, чтобы до его возвращения оттуда никто не смел рассказывать Машеньке о том, «что она еще вполне не знает». Было положено готовить ее к печальному разговору о судьбе мужа постепенно. Поэтому только в первых числах августа, с большими предосторожностями, объявили княгине, что, по поступившим «верным сведениям», Волконскому «сохранится жизнь». Особой радости или облегчения Мария в ту минуту не испытала: она и раньше верила в справедливость молодого государя и не сомневалась, что ее Сергей, по наивности ставший жертвой проходимцев, избежит самой страшной кары. Услышав новость, Волконская ограничилась кратким комментарием. «Она мне решительно сказала, — писал Н. Г. Репнин[344] С. Г. Волконскому, — что она будет делить жизнь свою между тобою и сыном вашим»[345].
Таким образом, и в августе Мария — что бы ни утверждали повсюду Волконские — только вновь подтвердила свою общую, принципиальную позицию. Ничего более определенного относительно своего ребенка и поездки к мужу она, ожидавшая не расплывчатых, а конкретных официальных известий (прежде всего юридического характера), сказать тогда не захотела да и не могла.
(Здесь уместно напомнить читателю о том, что существовавший в то время Особый комитет, учрежденный для составления правил о содержании государственных преступников в Сибири, столкнулся с серьезными трудностями в определении юридического положения женщин, которые пожелали бы последовать за сосланными в каторгу мужьями. В статьях «Устава о ссыльных» 1822 года были упоминания о женах ссыльнокаторжных, однако данные статьи не могли исчерпывающе точно регламентировать статус таких необычных лиц — жен политических преступников, к тому же благородного происхождения. Дабы не противоречить действующему законодательству и не перекраивать его, было признано целесообразным поступить с «дамами из общества» следующим образом. Особый комитет поручил своему члену, генерал-губернатору Восточной Сибири тайному советнику А. С. Лавинскому, спешно разработать и «дать от себя предписание, на законном основании составленное, иркутскому гражданскому губернатору». Этим предписанием, своего рода подзаконным актом, и должно было, по мысли властей, впредь определяться правовое положение прибывающих в край добровольных изгнанниц. Проект документа, вполне легитимного, но имевшего непривычно суровые для дворянского сознания той эпохи пункты, был представлен на благоусмотрение императора Николая Павловича и после высочайшего исправления и утверждения отправлен 1 сентября 1826 года из Москвы в Сибирь. В течение нескольких месяцев данные о создании генерал-губернаторского предписания хранились в строжайшей тайне, и, как мы увидим, те жены декабристов, которые уехали в «каторжные норы» первыми, узнали его содержание только в Иркутске[346].)
Лишь в конце сентября Александр Раевский, посовещавшись с отцом, наконец-то сообщил Марии о вынесенном Волконскому приговоре. Дабы избежать лишних эмоциональных объяснений, Александр Николаевич предъявил ей и петербургские газеты, уже порядком потрепанные. Тем самым он продемонстрировал, что теперь ничего не скрыто от княгини и она имеет исчерпывающую (в том числе и правительственную) информацию. Конечно, Мария Волконская не смогла удержаться от упреков — и между братом и сестрой произошел долгий и трудный разговор. «Я ему объявила, что последую за мужем; брат, который должен был ехать в Одессу, сказал мне, чтоб я не трогалась с места до его возвращения», — вспоминала о том конфликте княгиня[347].
Запреты брата не сумели удержать Марию в Александрии: раз ситуация прояснилась, жена могла, обязана была действовать без какого бы то ни было промедления. Не успел Александр скрыться из виду, как она, воспользовавшись снятием надзора, стала собираться в дорогу. В мемуарах княгини написано: «На другой день после его отъезда я взяла паспорт и уехала в Петербург»[348]. Возможно, что именно так и было: Мария Николаевна и Николино выехали из Александрии тотчас вслед за Раевским, то есть буквально на следующий день. Однако мемуаристка забыла упомянуть о том, что, торопясь в столицу, она попала в Петербург далеко не сразу: по дороге Мария решила заглянуть в Яготин, имение Н. Г. Репнина в Полтавской губернии, — и там, среди родственников мужа, надолго задержалась.
Случилось вот что: Николай Григорьевич Репнин, старший брат декабриста, полагал двинуться в Петербург вместе с Марией — однако накануне отправления внезапно заболел и слег. Обещавшая взять его в попутчики княгиня была вынуждена ждать выздоровления деверя, и это очередное ожидание — что за наваждения преследовали ее по пятам! — растянулось почти на месяц.
Разумеется, Репнины тут же воспользовались представившимся удобным случаем и постарались в неспешных семейных беседах поддержать усилия Волконских. Они напомнили Марии Николаевне о желательности ее скорейшего воссоединения со страждущим мужем. Только одного не учли Репнины: Мария Волконская и без этих вкрадчивых яготинских разговоров и околичностей была настроена самым решительным образом — иначе зачем бы она вырвалась из-под опеки и устремилась в столицу империи? Так что напрасно Варвара Алексеевна Репнина при уютных свечах заводила, многозначительно поглядывая на Марию, речи, к примеру, о том, что героическая «старая княгиня Волконская едет к сыну». Мария слушала ее учтиво, но вполуха, рассеянно, поглядывала при этом на мирно сопящего Николино и думала о своем, заветном.
Такие думы подчас уносили ее далеко-далеко…
Порою, когда Варвара Алексеевна увлекалась сверх всякой меры и комната начинала походить на провинциальную театральную залу, Марии страсть как хотелось встать и выйти вон: она не выносила ложного пафоса и, раздражаясь, сдерживалась с трудом.
Ведали бы наивные Волконские и Репнины, как быстро княгиня проникла в суть их козней и что она тогда, осенью 1826 года, не подавая виду, о них думала!