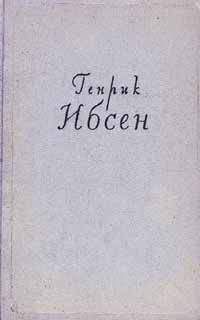Екатерина Олицкая - Мои воспоминания
Долго не могла я уснуть, возбужденная рассказами о дочке. Утром я проснулась от крика Муси, от ее зова: «Мама! Мама!» Голос был так реален, так жалобен. Я вскочила, села на кровать, взглянула на часы: семь. Проспала. Я стала будить Шуру. Зов Муси стоял у меня в ушах, мучил меня.
— Шура, — сказала я, — я люблю Мусю больше, чем тебя.
Заботы дня, дней, сгладили крики из моей памяти. С переездом Шуры ко мне, мы не ограничивались питанием в столовой. Вечерами я часто варила картошку, кипятила чай на примусе, стоявшем с разрешения хозяйки в холодном коридорчике у входа в дом.
Поздно вечером, когда все в доме уснули, сварили мы на нашем примусе шапирографскую массу и вылили ее остывать в купленный нами кухонный противень — лист, соответствующий листу заготовленной нами бумаги.
Теперь вечерами, когда хозяева укладывались спать, мы с Шурой печатали листовки. Восковки мы так и не достали, писали шапирографскими чернилами. Каждый лист давал нам до 30 хороших оттисков, в редких случаях до 40. Звуки невыключаемого радио прикрывали шум от прокатываемого валика. Часто мы заменяли его простой платяной щеткой. Работа двигалась очень медленно, но мы были упорны.
Выпустить листовки за эсеровскими подписями мы считали себя не в праве. Мы подписывались, как «Группа действия за дело народа», но аншлаг эсеров «В борьбе обретешь ты право свое» мы оставили.
Конечно, теперь, более чем через 30 лет, я не могу припомнить содержания листовок, они были присоединены к моему делу. В арест 1949 года следователь, листая мое дело, вычитывал отдельные цитаты из них. Тогда они были целы, хранились в архиве. Одна из них содержала анализ экономического положения страны. Говорилось в ней о разорении народа, об обнищании, бесправии и моральном разложении. Говорилось о диктатуре партии, о перерождении ее, о появлении мощной бюрократической прослойки. Нами ставился вопрос о том, двигается ли страна к подлинному социализму или прорастает в госкапитализм или в госсоциализм. Вторая листовка была заглавлена — «Будет ли война?» Конец 1931 года. До мировой войны 1941 года — десятилетие. Но анализ действительности уже тогда показывал неизбежность войны при той политике, какую осуществляла партия. В листовке доказывалось, что предстоящая война в корне будет отличаться от предшествовавших войн. Что она будет носить характерную особенность, особенность политическую, особенность борьбы двух систем. Я не могу пытаться подробнее остановиться на их содержании. Я могу спутать и вложить в них мысли, которые приходили нам позже, в течение ряда лет. Но я четко помню, что в них был призыв к борьбе с тотальным строем за подлинную демократию. За демократию для всех демократических течений, за свободное рабочее движение, свободные профсоюзы, свободную кооперацию. Они призывали к борьбе против единой монопольной всевластной партии большевиков, захватившей законодательную и исполнительную власть, диктующей свою волю, свою линию поведения через все захваченные ею рабочие и кооперативные организации. Они призывали к борьбе против централизации, против Левиафана-государства, порабощающего человеческую личность, сковывающего ее всестороннее гармоническое развитие. Листовки наши говорили, наконец, о логическом развитии пути, по которому большевики ведут страну. Я помню хорошо фразу: «Мы переживаем цветочки, ягодки — впереди!»
Теперь, переписывая эти строки, я невольно думаю, что «ягодками» оказались события, получившие название «культа личности». Смерть Муси
В следующую субботу Шура должен был ехать с нелегальным грузом. Мы торопились и успели.
Шура уехал с первой партией наших листовок. Они предназначались для Москвы и Ленинграда. Конечно, ждала я его возвращения с напряжением. Поезд приходил поздно. Весь домик наш спал, когда я выбежала на его стук. Как-то необычно, как-то странно вошел Шура в комнату. Он, не смотря на меня, отворачивался, медленно снимал пальто. Не знаю что, но что-то страшное читала я на его лице.
— Шура, что, что случилось?
— Муси больше нет.
Я ждала всего, что угодно, но только не этого. Я не поняла фразы.
— Как нет? Что значит НЕТ! Опустившись на стул, Шура плакал.
— Ее забрали в НКВД? — спасала я себя какой-то надеждой.
Он отрицательно покачал головой. Не веря себе, не веря ему, я произносила самое страшное слово, которое он не решился произнести: «умерла»? Умерла… Я не верила тому, что говорила, и знала, что это так. Прошлое воскресенье Шура привез такие радостные вести о ней…
Слово за словом выжимал Шура из себя. Слово за словом обрушивалось на меня бездной отчаяния. Шура плакал, я не могла плакать.
Муся умерла в тот понедельник. Моя Муся умерла в тот час, когда я проснулась от ее крика, от ее печального, жалобного зова: «Мама!»
В прошлое воскресенье вечером Муся начала кашлять, хрипеть, потом задыхаться. В доме забеспокоились, всполошились, сбегали в аптеку, стали вызывать скорую помощь. Безрезультатно. Девочке становилось хуже. В 6 утра, как только появилась возможность, ее снесли в детскую амбулаторию, оттуда с диагнозом — круп — немедленно отправили в больницу. В больнице врачи сказали «поздно», но по настоянию бабушки попробовали сделать операцию. Муся умерла в 7 утра. Последние часы она не могла уже ни говорить, ни плакать. Она жалобно смотрела на бабушку.
Я не смогла плакать, отчаиваться. Никто не должен был знать, что я потеряла ребенка и как потеряла. В ушах моих звучали ее слова: «Мама, вы с папой никуда не уедете?» А мы — уехали.
Перед глазами стояли ее протянутые руки из вагона поезда.
Дома я брала в руки Мусину фотокарточку и смотрела на нее. Видела же я Мусю не такой, как на карточке, — во всех других видах, позах, живая стояла она передо мной. И я откладывала карточку. Застывший образ мешал мне видеть ее живой, многообразной, изменяющейся, то плачущей, то смеющейся.
И на всю жизнь я поняла тогда, что фотографии только заслоняют собой живую память о человеке. Они нужны посторонним, не видавшим, не знавшим, не помнящим.
Еще острее я поняла это, когда Шурина мать прислала мне фотографию Муси в гробу. Только не это. Только не так…
Как могли, жили мы с Шурой. Как могли, ходили на работу. Переехали на новую квартиру. Как могли…
В следующую субботу мы сделали то, чего не должны были делать. Мы оба поехали в Москву. Мы
10. И ОПЯТЬ В ТЮРЬМЕ
Один из надзирателей двинулся к нам, ему передал меня мой спутник. Путь мой был недалек: тут же, в нижнем этаже щелкнул замок одной из многочисленных камер. Камера, в которой я очутилась, так поразила меня, что я не услышала поворота ключа за собой. Длинная, узкая, без окна. Стены до половины окрашены в коричневый цвет. Вдоль стены длинные, тоже коричневые, деревянные нары. Камера освещалась лампочкой, пропущенной с коридора высоко над дверью. Из камеры отверстие было затянуто проволочной сеткой. Удивительное дело, нет обязательной параши! Я застучала в дверь.