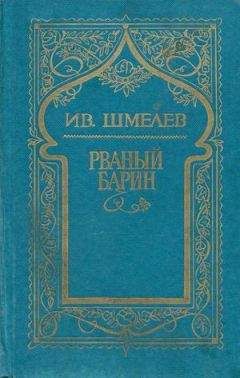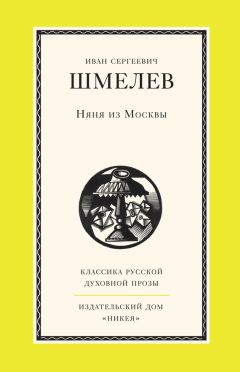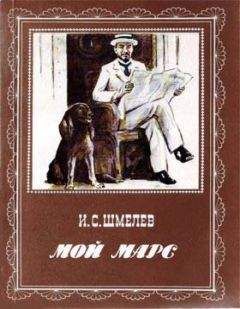Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание
За день до этого Бальмонт отправил письмо Шмелеву, в котором были слова утешения:
Милый, родной Иван Сергеевич, оба Ваши большие письма получил, и за каждое Ваше ласковое слово мы все кланяемся Вам в пояс. Счастье для нас знать, что Вы есть на свете и что Вы — такой. Уже давно мы задыхались от ползучей человечины, вроде совсем непобедоносных газетных Георгиев, Бобчинских-Добчинских, а Вы для нас — как Свете Тихий[299].
Через одиннадцать дней, 27 декабря 1927 года, он отправил Шмелеву еще одно письмо, в котором так старательно залечивал душевную рану писателя:
Мой дорогой друг Иван Сергеевич.
Мы были взволнованы радостно Вашим взволнованно братским письмом. Но не стоит, правда, ни летом Вам, ни зимой мне волноваться так, из-за другого. Да, мы не выйдем никогда из этих волнений, если будем так близко принимать к сердцу проявления низкой звериности и — хуже — дрянной животности, в той человеческой трясине, которая нас окружает. Их, этих гадов, мы не переделаем, а себя надсадим. Ну, правда, все-таки образумить их несколько и заставить посдержаться мы сумеем, и Вы, и я, не завися друг от друга и ни в чем не сговариваясь. Для нас наше светлое и божеское в нашем человеческом, достаточное ручательство, что наши глаза не лгали друг другу, когда наши глаза и голоса менялись приветами и радостью жизни в свете и правде[300].
Шмелев и Иванов были схожи в своей непримиримости к большевизму. В остальном они друг другу далеки.
Был замечательный Игорь Чиннов, один из самых ярких поэтов русского зарубежья. Иванов был его покровителем: по его рекомендации двадцатидвухлетний Чиннов послал свои первые стихи в «Числа», журнал молодой литературной эмиграции. В интервью Чиннов, как и Бальмонт, назвал Иванова снобом: «Георгий Иванов всегда был снобом и эстетом и им остался»[301]. Шмелев таковым не был, потому судьба последнее время постоянно его сталкивала то с одним снобом, то с другим. Снобизм, возможно, подпитывался тем, что в 1927 году Иванов начал публиковаться в «Современных записках», самом влиятельном журнале русской эмиграции. Он и Ирина Одоевцева оставили Россию в октябре 1922-го, и вот в 1927 году, наконец, «Современные записки».
Чиннов высказал еще одно наблюдение: «Иванов всегда писал не то что женственно, но и не мужественно»[302]. Классический язык Шмелева — мужской, его взгляд на мир — мужественный. Обругав Иванова Смердяковым, Бальмонт будто предчувствовал, как в его поэзии вскоре разовьется острый скепсис, появится эпатирующий цинизм, безверие в человека, мир, искусство. Для него жизнь — гибельный акт. Не принимавший экзистенциалистских рефлексий, Шмелев называл Иванова упадочником. В мужественной шмелевской прозе не было ни рефлексии, ни нытья. Сноб, упадочник, модернист, который еще и пишет не мужественно, — уже этого достаточно, чтобы понять, какими они были друг другу посторонними.
Конечно, Иванов не был «литературным заикой». Да, к доэмигрантскому Иванову относились снисходительно, Ходасевич вообще назвал его раннюю поэзию художественной промышленностью, а Блок в 1919 году, хотя и отозвался о нем как о самом талантливом среди молодых, подметил: у него есть такие страшные стихи ни о чем! Также двойственно отнеслись к нему и Гумилев, и Кузмин. И в 1922 году о нем писали, в частности К. Мочульский, как о создателе очаровательных и незначительных стихов. Только после 1931 года, после выхода его книги «Розы», критики полюбили его за подлинность. При всем том Иванов, возможно, — самый талантливый поэт эмиграции, и Мережковский справедливо одну из своих книг надписал ему со словами «Лучшему поэту современности». Его манерные выпады вроде «Хорошо, что нет Царя. / Хорошо, что нет России. / Хорошо, что Бога нет» скрывали настоящую боль. Даже в его заявлениях о том, что он по ту сторону Добра и Зла, были и растерянность, и самозащита, и игра — маска циника, которую он не хотел снимать, а может быть, потом уже и не мог. Справедливо написал о нем поэт и литературовед Владимир Марков: «Георгием Ивановым возмущались, его пробовали оправдать, объяснить, им восхищались, но, кажется, никто не писал, как и за что он любит его стихи. В самом деле, за что любить этого бывшего молодого петербургского сноба, „объевшегося рифмами всезнайку“, избалованного ранним признанием „лучших кругов“ — в безвоздушной эмиграции вдруг ощутившего бессмыслицу, пустоту, дырку (жизни, искусства ли) и не в очень приятной форме доложившего об этом читателю? Но это в лично-поэтическом, внешнем плане. Если же обратиться к „стихов виноградному мясу“, то где еще сейчас найдешь эту простоту и вместе неуловимость, это чувство современности в сочетании с ароматом недавнего прошлого, эту смесь едкости и красоты?»[303]
На закате жизни его ждала богадельня — приют для стариков, в те годы он уже производил впечатление «почти безумца», как вспоминала Н. Берберова, он напоминал «картонный силуэт господина из „Балаганчика“», и «в его присутствии многим делалось не по себе, когда, изгибаясь в талии — котелок, перчатки, палка, платочек в боковом кармане, монокль, узкий галстучек, легкий запах аптеки, пробор до затылка, — изгибаясь. Едва касаясь губами женских рук, он появлялся, тягуче произносил слова, шепелявя теперь уже не от природы (у него был прирожденный дефект речи), а от отсутствия зубов»[304].
Можно предположить и иной источник сарказма Иванова в отношении к Шмелеву. Иванов — лирик, поглощенный собой. В эмиграции в Шмелеве проявился несвойственный Иванову пророческий, серафический пафос, традиционный в литературе XIX века. Уже поздний Иванов спародирует: «И внемлет арфе Серафима / В священном ужасе петух» («Голубизна чужого моря…», 1955), соединив пушкинского пророка и некрасовский петушиный бой пророков с толпой.
Шмелев и Иванов — два полюса эмигрантской литературы. Таковыми они были и в восприятии современников. Игоря Северянина вдохновило «Солнце мертвых», которое стало реминисцентным фоном для его медальона «Шмелев» (1927): «И солнце в безучастном небосводе / Светило умирающим живым», «Глумливое светило солнце мертвых». В «Солнце мертвых» он почувствовал библейскую суть, в строке «в каждом смерть была окне» слышится Екклесиастом сказанное о смерти: прах возвращается в землю, а дух — к Богу, «и помрачатся смотрящие в окно» (12:4). В медальоне же «Георгий Иванов» (1926) Северянин написал: «Коварный паж и вечный эпигон», в пере которого «вдосталь гноя» — и обмокнуто оно «не в собственную кровь». Пикантность медальона в том, что ранний Иванов находился под влиянием Северянина, и его сборник «Отплытие на о. Цитеру» (1912) — дань северянинскому авторитету.