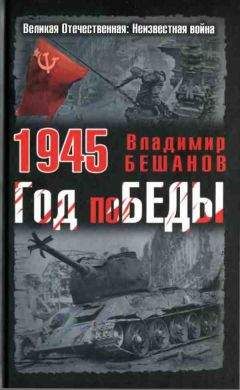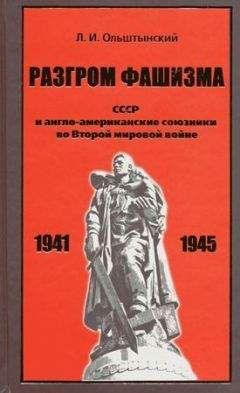Фаина Оржеховская - Шопен
– Тогда испытайте его, подождите!
– Не могу ждать, не могу! Он все еще не понимал ее.
– А если есть человек, – начала она с живостью, – который обещает заботиться обо мне и укрыть от всех опасностей? Который любит меня, а не свою прекрасную грезу? Человек, который может стать для меня опорой?
– Вот как? С этого вы бы и начали, панна Кося!
Он кое-что вспомнил. Ему недавно говорил Тит, но он не обратил внимания. Мало ли кому нравится Констанция…
– Так это пан Грабовский, негоциант? Что ж! Статный мужчина! И, кажется, очень богат?
Конечно, не надо было упоминать о богатстве, не надо было произносить это слово: «негоциант». Но Ясь захлебнулся от горечи и негодования. Фридерик Шопен – и этот Граб, которого они все знали, полушляхтич, полукупец с холеными щеками! Фридерик никогда не опасался его. Констанция и не глядела на таких, несмотря на их богатство. Но, может быть, ни Ясь, ни Фридерик не знали ее!
– Но тогда вы от театра совсем откажетесь? – спросил он, – даже если можно будет остаться?
– Пан Ясь! – воскликнула она, заломив руки, – я не могу так жить! Я не сплю по ночам: все прислушиваюсь… Пан Ясь, я не могу перенести грубость, злобу, люди мне страшны, а особенно в такое неверное время! Нет ничего легче, как столкнуть меня в пропасть, оскорбить, напугать до смерти! На улице я жмусь к стенке… Я и раньше боялась жизни. Но тогда было другое…
– Что ж? Если все прошло…
– Не прошло! Если бы мне хоть сказали: жди столько-то и столько, – я бы ждала! Но я ничего не знаю, ничего не вижу впереди. Наши дороги расходятся, и я боюсь всего! Бог знает, что еще ждет нас!.. Нет, это судьба!
Он смотрел на нее грустно, задумчиво.
– Я не совсем понимаю вас, дорогая панна. Любить одного – и связать себя навеки с другим! По-моему, кто любит, тот должен ждать и ни в чем не сомневаться. Тем более что вы не одна, есть семья, которая готова и может стать вашей семьей. Но как бы то ни было, желаю вам счастья. И – плакать вам совсем не надо! Однако, что же вы хотите? Чтобы я объяснил ему?
– Да. Только не сейчас, а гораздо позже. Слышите? Гораздо позже.
Хорошо. Только не плачьте, пожалуйста! Вы только начинаете жить, вы оба! И я уверен, что еще будет много хорошего в жизни. И у вас, и у него! – Да, в отдельности!
Слова Яся не успокоили Констанцию. Она плакала навзрыд. На улице было немного народу, а женские слезы в те дни никого не удивляли. Ее платочек был весь мокрый, и Ясь, порывшись в кармане, подал ей свой большой чистый платок. Она взяла его и прижала к губам. Еще с полчаса они ходили над рекой. Потом Ясь проводил ее и на прощанье еще раз пожелал ей счастья.
Глава четвертая
В Штутгарте, в небольшом номере гостиницы, Фридерик Шопен стоял у окна, ожидая носильщиков. Все его вещи были уложены. Он уезжал в Париж.
Он сильно изменился за те девять месяцев, которые легли между ним и Варшавой. Он похудел и как будто вырос. Нос казался тоньше, длиннее, резче. Небольшой, красивый рот был сжат и словно отвык от улыбки. Воспаленные глаза глядели жестко; их мнимая мечтательная голубизна исчезла, глаза были совсем темными. Страдания наложили свой отпечаток не только на лицо, но и на всю фигуру. Он был по-прежнему строен, но, глядя на него со стороны, можно было подумать, что у него привычка горбиться.
Вид мирной улицы, залитой сентябрьским солнцем, не смягчил и не утешил его. Носильщиков не было, и это раздражало Шопена – ему не терпелось очутиться на новом месте, где он мог бы спокойно работать. Он вез с собой новые пьесы, в том числе черновик прелюда, который он не успел окончить. Он знал, что воспоминания об этой маленькой комнатке долго не оставят его: здесь родился новый Фридерик Шопен. И если сейчас, несмотря на пережитые страдания, он был полон энергии и сил, если у него больше не было ощущения гибели и хаоса, которое несколько дней тому назад едва не поглотило его, то лишь потому, что здесь, в этой клетушке, у маленького фортепиано, он понял, в чем цель его дальнейшей жизни. Он убедился, что сумеет оправдать доверие своего друга и всего польского народа.
Он больше не был песчинкой, затерянной в водовороте. Он устоял на ногах. Разбитый, измученный, ошеломленный всем, что пришлось испытать, он был почти спокоен. Он не понимал теперь, как остался жив после известия о падении Варшавы и особенно в первые дни после этого! Остался жив! Родился новый человек, художник, о котором говорил Тит. Сердце художника – заповедный тайник, вобравший в себя жизнь народа. – Я сохраню твой образ, Польша, в этой нетронутой глубине, и зов моего колокола достигнет до твоих ушей!
Он вспоминал все, что произошло за последние два месяца. Когда он наконец выбрался из,Вены, так и не получив польского паспорта, он с особенной силой почувствовал свою бесприютность. Было ясно, что он на долгие годы остался эмигрантом. Это усилило оцепенение, которое постепенно охватывало его в Вене. Он стал до такой степени нечувствителен ко всему, кроме вестей с родины, что даже начавшаяся холера, вызвавшая небывалый страх в Вене, нисколько не испугала его. Ему были смешны жители, раскупающие печатные молитвы от холеры – новый источник дохода какого-нибудь предприимчивого издателя!
Вена быстро пустела. Все разъезжались. Один из знакомых музыкантов, с которым Шопен ежедневно виделся, в течение суток умер от холеры. Фридерик как будто не сознавал опасности. Он только боялся карантина, боялся, что задержится в городе, где был так несчастлив.
Наконец ему удалось уехать. Путь его лежал в Лондон – проездом через Париж. Но Лондон почему-то не привлекал Шопена. Он собирался остаться в Париже. Проезжал, через Мюнхен, Зальцбург и Штутгарт. В Штутгарте он узнал о взятии Варшавы.
Когда медленно, долго и мучительно умирает близкий человек, как будто свыкаешься с мыслью об его смерти. И все-таки это потрясает неожиданностью. Так было и с Шопеном, узнавшим о варшавской катастрофе. Он мог ждать этого. Последние два месяца вели к этому концу. И все же Фридерик был сражен. Он и прежде тосковал, мучился, но только убедившись в несчастье, он по-настоящему понял, чем была для него Польша, Варшава, Желязова Воля! Это была вся его жизнь, его детство, юность, все, что он любил и чего уже нет. Он осиротел, он был один на земле.
К этому присоединилась мучительная тревога за близких. Он представлял себе, что это значит – город, отданный на произвол победителей! Ему рисовались ужасные картины. Разрушенный дом. Издевательства над стариками, их нищета. Раненый и беспомощный Тит. Ясь, попавший в руки врагов: ведь он не покинет свой пост до последней минуты! О сестрах он боялся думать. О Констанции… Всю ночь напролет бегал он, как зверь в клетке, близкий к самоубийству. Он был совершенно один в этом чужом городе, который мирно спал, не подозревая о его муках.