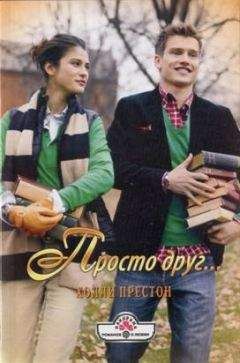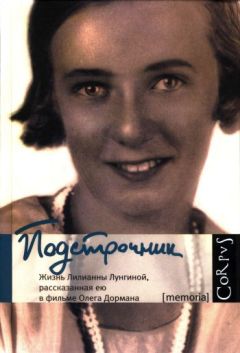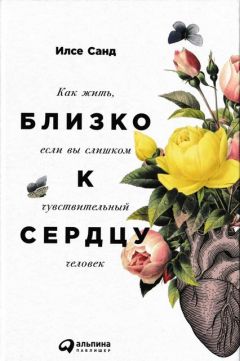Олег Дорман - Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана
Прошло лет десять. Однажды за границей я получаю утренние газеты и вижу на всех первых полосах фотографию того человека. С подписью «новый генеральный секретарь компартии Советского Союза Юрий Андропов». Значит, в тот раз, когда я его видел, он был председателем КГБ.
47
Теруко стала все чаще говорить: «Хочу домой. Хочу домой». Ей было действительно невыносимо. Мы решили, что они с Сашей улетят в Токио. Для меня это была трагедия. Мне больно рассказывать.
Теруко всю жизнь мечтала увидеть Италию. Я сказал: поезжайте сначала туда, из Москвы до Италии ближе, чем из Токио. Как японская гражданка она имела право это сделать — при условии, что потом не вернется в СССР.
Они улетели. Но обратный путь из Рима в Токио лежал через Москву. Я пошел к Фурцевой, попросил ее помочь мне войти в зал для пересадок в аэропорту. Мне разрешили, и я зашел, виделся с ними. Саша всегда обожал смотреть, как фотографируют, я понимал, как ему хочется самому, и принес ему, подарил фотоаппарат. В первом же письмишке из Японии он написал мне: «Спасибо за то, что ты подарил мне автопарат. Я теперь могу снимать и буду присылать тебе снимки, и мои, и мамы».
Что только я не делал, чтобы сохранить ему мою фамилию. Но в конце концов получил ответ от японского правительства, что по их законам это невозможно. Мальчик должен носить фамилию матери, оставаться японцем, а потом отслужить в японской армии. Саша стал Такеши.
Я впервые увидел его снова благодаря Рихтеру. Он такой друг, Рихтер, и такой товарищ, каких я не встречал на свете. Его пригласили на гастроли японцы. Он сказал: «Рудик, вы поедете со мной». Я говорю: «Меня не выпустят никогда в жизни, понимаете?» — «Посмотрим». И поставил японцам условие: сольные концерты дать могу, а симфонические — только с Баршаем. А потом в интервью сделал такое заявление: «Я играю только с двумя дирижерами — с Бриттеном и с Баршаем».
Японцы его убеждали: «Мы наймем вам любого дирижера, сколько бы ни стоило». — «Нет, только Баршай».
Вдруг меня срочно вызывают в Министерство культуры. «Вот вам бумажка, немедленно поезжайте в эту больницу, вам сделают прививки, и утром вы должны улететь в Токио». Как выяснилось, Фурцева была в Японии в это время. К ней обратились товарищи из японской компартии: помогите. И в Москву пришла телеграмма-шифровка от Фурцевой: «Любыми средствами, путями, не позднее, там, послезавтра, Баршай чтобы был в Токио».
Смешно, да? Смешно. Но все-таки не только смешно.
Нина Львовна потом мне сказала: «Ну, Рудик, сами знаете, когда Слава чего-то по-настоящему захочет, он на все идет и обычно добивается своего».
Я прилетел в Токио, из аэропорта позвонил Теруко. Они с Сашей пришли на концерт, потом мы ушли вместе. Через некоторое время Теруко мне написала, что Саша после этой встречи сказал: «Я боялся, что уже стал забывать отца. А теперь вот его запомню. Теперь запомню».
Случилось так, что тогда же уехал из страны мой Володя. Его мама с новым мужем решили эмигрировать в Америку. Меня стали вызывать в инстанции, требовали, чтобы я не давал сыну разрешение на выезд. Я отвечал: вы хотите, чтобы я стал для него врагом на всю жизнь?
Володя рано стал самостоятельным, и внутренне самостоятельным. Однажды, когда пришла ему пора получать паспорт гражданина СССР, он написал в анкете: «еврей». Секретарша в милиции прочитала и говорит: «Ты что делаешь? У тебя же мама русская». Он ответил: «А я еврей». — «Что значит, „ты еврей“? У тебя русская мама, ты имеешь законное право написать, что ты русский». — «Но я чувствую себя евреем, понимаете?» Она говорит: «Нет. У меня не поворачивается рука подписать тебе такую анкету. Я не хочу тебе портить жизнь». Отложила на следующий день. На встречу пришел начальник милиции, и весь этот разговор повторился. Но Володя настоял. И начальник милиции сказал: «Ладно, не надо, если так чувствует — пусть».
Когда я Володю спрашивал, он мне отвечал то же самое: «Папа, я так чувствую». Поразительно. Для Володи обычаи, обряды еврейские — не пустой звук. Это вера его предков. А через год уехал и Лева со своей семьей. К этому времени я в жизни перестал участвовать. То есть ничего, кроме музыки, для меня не существовало. Меня ничто не трогало, не интересовало — ни природа, ни книги, ни женщины. Время от времени, если был свободный вечер, мы бродили с Сергеем Александровичем Мартинсоном, который очень тосковал по дочери и внуку, ужинали вместе, ездили в Архангельское, он рассказывал мне о своих шведских предках, о детстве в Петербурге, о Мейерхольде — своем учителе, замученном в НКВД.
Однажды пришел ко мне Рустем Габдуллин, потрясающий контрабасист, может быть — лучший в мире. Как сказал дирижер Нелло Санти, «никогда в жизни не мог понять две вещи: женскую логику и интонацию контрабасов». Так вот как раз у Рустема была идеальная интонация. Он говорит: «Я знаю, что вы ищете в оркестр клавесиниста. У меня есть кандидат. Только это женщина». — «Ну что же. Когда-то с нами прекрасно играла Таня Николаева. Приводите, послушаем». Он привел. Они одновременно учились в консерватории, Рустем на струнном факультете, она на фортепианном, а позже — по классу органа. Звали ее Лена Раскова. Пришла в таком строгом костюмчике, чем-то напоминавшем военную форму. Которая ей очень шла. Познакомились. Села, заиграла. Я слушаю — все правильно. Просто нечего поправить. Ну что же, Лена, давайте поиграем с оркестром.
На репетиции она вдруг поднимает руку: «Можно спросить?» — «Давайте». — «Если вот в этом месте я сыграю другой аккорд, чем написан в партии?» — «Какой?» Она показала. Отлично!
К концу репетиции все поняли, что эта Лена — то, что нам надо. И стали работать вместе.
А потом у нас с ней возникла симпатия. Просто симпатия, ничего другого. Эта симпатия нас сближала, сближала… Лена помогала мне готовить симфонию Шуберта, которую я должен был исполнять с БСО: мы встречались у нее дома, она играла на пианино, а я дирижировал. Всю жизнь беззаветно люблю Шуберта. Он гений из гениев, и я не сомневаюсь, что из него вышел бы Малер. Если бы Шуберт прожил еще полвека, он стал бы Малером. Надо сказать, Локшин горячо поддерживал эту мою мысль.
Я увидел в Лене человека, который меня возвращает к жизни. Так к ней привязался — не могу передать. Всегда на репетициях поднимет руку и какое-нибудь предложение внесет. И всегда очень к месту. И так вот сначала симпатия, а потом больше чем симпатия, потом дело кончилось любовью. Через тридцать лет, когда я приехал сыграть в России Малера и Торжественную мессу Бетховена, Рустем Габдуллин работал в БСО. В перерыве репетиции я подошел к нему и сказал: «Рустем, я буду вам всю жизнь благодарен за встречу с Леной».