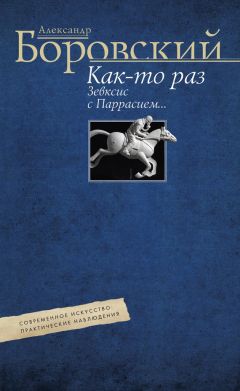Иосиф Бакштейн - Внутри картины. Статьи и диалоги о современном искусстве
А.М. Да, конечно.
И.Б. Можно по-разному относиться к работам Кости Звездочетова. Но есть несомненная простота и ясность его семантики и его эстетики. Нельзя все-таки отрицать то, что работы Ануфриева этим качеством не обладают.
А.М. Не обладают.
И.Б. Потому что вот, например, Кабаков, когда он завоевывал место на художественной арене, он делал вещи, которые обладали ясностью и мощью и тем самым – определенностью.
А.М. Так мы уже определили, почему они обладали. Очень жесткая идеологическая посылка.
И.Б. Да, да. Но он сумел эту жесткую идеологичность воплотить предметно.
А.М. Да, правильно. Жанрово воплотить.
И.Б. Значит, пока все-таки мы пришли к тому, что наше внимание к работам Ануфриева во многом коренится в том, что они – единственные работы, которые ложатся в ряд картинок, которые мы знаем по западным журналам.
А.М. Ты думаешь так?
И.Б. Ну да, но просто…
А.М. Ну, например… честно говоря, мне интересно…
И.Б. (Глядя в телевизор.) А что она там поет, включи звук.
А.М. (Смех.) Да ну, что…
И.Б. Гурченко…
А.М. (Смех.) Но понимаешь, в чем дело, если бы они повторяли западные дела, как «детсадовцы» – Филатов, Ройтер и т.д., – это одно. Но здесь не так. Ануфриевские работы приставляются к западному ряду, а не повторяют. А чтобы приставиться, нужно внести что-то свое.
И.Б. Это правильно…
А.М. Они просто к этому общекультурному уровню приставляются, а не подражают.
И.Б. Конечно. Я все-таки не настолько «наивен», чтобы не понимать, что есть отличие между возможностью вставить в этот ряд Ануфриева и очевидной стилизацией, которую мы видим у «Детского сада», Филатова, Ройтера и т.д.
А.М. Да их и нельзя вставить, потому что они то же самое, только хуже.
И.Б. Да. А ануфриевские в этом ряду, но другое. Да, это правильно.
А.М. Ануфриев в данном случае представляет просто еще один вагон, который прицепляется, скажем, к экспрессу, циркулирующему между, там, Веной и Парижем, что-то в этом роде.
И.Б. Но в этом смысле что я хочу сказать. Работы Кабакова, как ни странно, не смотрелись бы в этом ряду.
А.М. А какие именно работы?
И.Б. И картинки из альбомов и «По краю»…
А.М. Но они же ведь смотрятся в ряду западных картин?
И.Б. Если мы натыкались бы на них взглядом, вот, например, мы листаем журнал, а натыкаемся на такие работы. Мы сразу думаем: -б твою мать, что это такое? Наш глаз останавливался бы на них не только потому, что мы их знаем, а потому, что они, как всякое, естественно, советское, русское искусство, выбиваются из западных дел. Работы Ануфриева в этом смысле почти бы не выделялись. Мы бы сразу сказали: «Вот какой интересный западный художник!»
А.М. Да, верно. И совершенно не важно, что там русские надписи.
И.Б. Абсолютно не важно.
А.М. Так это удивительное достижение!
И.Б. Да, это особое качество. Оно как бы запредельное, это просто чудо. Именно чудо. Он действительно антипод. Он провалился сквозь центр земли.
А.М. Да, и вылез уже с той стороны. Вылез уже как один из нормальных людей, без метафизического шовинизма.
И.Б. Да, он сумел себя до такой степени растормозить…
А.М. Здесь, в нашей ситуации, что удивительно…
И.Б. Да, здесь…
А.М. Практически он уничтожил себя, социально.
И.Б. Да, он аннигилировал свое социальное тело.
А.М. Очень точно. Аннигиляция социального тела и, следовательно, никакие идеологические социальные местные воздействия на него не влияют. Поскольку он для них – пустое место.
И.Б. Да, они просто сквозь него проходят.
А.М. И в этом смысле можно поговорить о работах Лейдермана. Они мне тоже очень нравятся, они очень напряженные. Но однако вот этого эффекта социальной аннигиляции в них нет. Они очень напряжены в социальном смысле, это очень такие «барометральные» работы…
И.Б. Верно. Это еще подчеркнуто чертами характера: довольно агрессивный Лейдерман и несколько расслабленный китаец Ануфриев.
А.М. Да, такой западный китаец. Но, конечно, у него тоже есть своя метафизика, но она уже общестратегического порядка. А Лейдерман еще как бы не покинул поле идеологической борьбы, хотя работы его, повторяю, очень хорошие. Ведь в наших рассуждениях нет оценок качества работ, есть только анализ степеней и способов идеологической задействованности в то или иное социальное тело.
И.Б. И в этом смысле совершенно незачем заниматься интерпретацией, почему там у Ануфриева «Татарбунары» или «Унгены», а вот общая структура – совсем другая.
А.М. Да. Вещь убедительная. Эстетический возврат впечатления от нее достаточно убеждает в том, чтобы принять эти работы именно как хорошие работы. В то время как таких работ очень мало, я почти и не знаю таких работ в последнее время. За исключением Кабакова, Лейдермана… трудно что-либо припомнить.
И.Б. Ну да, потому что все остальные либо чересчур перенасыщенные…
А.М. И кроме того, они все находятся в какой-то полемике – в эстетической, социальной и т.д. Так вернемся к категории завершенности. У Ануфриева, как ни странно, есть некий уровень метазавершенности местного авангардного движения вообще.
И.Б. Да, конечно.
А.М. То есть – раскол. Он сделал сильнейший удар, расколов категорию подлинности, с которой все время работал Кабаков.
И.Б. Да, верно.
А.М. И поэтому он представил нам подлинный центр.
И.Б. Вернул.
А.М. Да, вернул подлинный центр. Это очень серьезный шаг в истории нашего авангарда.
И.Б. То есть проделав эту мучительную операцию, этот подвиг Чкалова, слетав в Америку и вернувшись оттуда, перелетев через полюс, – это действительно как бы подвиг. И раз этот подвиг совершен, то возвращен и центр. То есть и другие художники в этом смысле могут им пользоваться.
А.М. Да, проблема серьезности центра снята, осталась только его онтология.
И.Б. Да, да, да.
А.М. Ведь в этом смысле все держалось на серьезности.
И.Б. Но нужно уточнить. Выходит, что созданы некие онтологические предпосылки заполнения центра. Или пока проделано только нравственное усилие, которое делает возможным метафизическую проработку? Тем самым уже близко к семантике, не правда ли?
А.М. К семантике, конечно. Самое главное – это семантическая атака. Здесь была проделана именно семантическая атака.
И.Б. То есть намечается такая цепочка: этика – метафизика – семантика…
А.М. Совершенно верно.
И.Б. То есть по очередности вынесения за скобки они именно в таком порядке располагаются…
А.М. Да, да. Кабаков, как какой-нибудь мощнейший дхармапала, хранитель веры, проделав ту же трехэтапную операцию вынесения за скобки местной идеологии, однако все время держал сам центр не за скобками, он всегда держал его напряженным, значимым в своей неподлинности. А Ануфриев сделал следующий шаг: вынес за скобки и центр, семантически его атаковав.
И.Б. Да.
А.М. Центр стал свободным местом, куда можно поместить свою экзистенцию – в эстетических пределах экзистенцию, разумеется, то есть преломленную, но преломленную по сравнению с Кабаковым минимально. То есть центр перестал быть для него серьезным, это уже не место битвы, там уже все давно прошло, все трупы сгнили, их убрали и опять трава растет. А у Кабакова центр – это место идеологических баталий.
И.Б. Да, да.
А.М. И Кабаков туда, в этот свой центр, ничего не может допустить: все, что там, – все ложь. Ануфриев же расколол, плюрализировал центр. Для Ануфриева центр – это уже не мавзолей, не Дворец съездов, это уже как бы свободное место для прогулок.
И.Б. Конечно, да.
А.М. И в этом смысле он действительно сделал очень мощное усилие, открыв местному артистическому поведению, местному художественному сознанию возможность делать деидеологические работы, не связанные ни с «русской идеей», ни с советскими/антисоветскими делами.
И.Б. Да, деидеологические работы.
А.М. И я думаю, что это основное качество его работ. Но, правда, я не знаю, что дальше может быть…
И.Б. Да, вот как дальше, это действительно интересно… Усилие совершено, утверждение новой эстетической реальности произошло, но как она будет прорабатываться, тематизироваться – сейчас сказать трудно, и очень интересно, как это все дальше пойдет. Ведь в нынешней ситуации кризиса и распада, перестроечного упадка вся ситуация не способствует переходу на новые позиции.