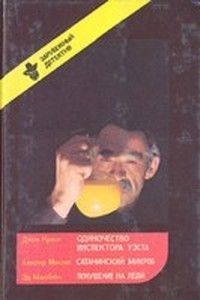Эммануил Казакевич - Из дневников и записных книжек
Он говорил, глядя немного в сторону, словно размышляя, или, может быть, для того, чтобы не разжалобиться видом девушки, чьи глаза, излучающие преданность и совершенное, полнейшее непонимание всего, что он говорил, и особенно русая коса, почти расплетенная, распущенная, казалось, тоже исстрадавшаяся донельзя, не могли не вызвать участия.
Последние вопросы дошли до сознания Нади, и она торопливо проговорила:
— Не верьте им! Мы середняки!.. — Она хотела его назвать по имени и отчеству, но в это мгновение забыла, как его зовут, от этого растерялась, но потом выкрикнула отчаянно: — Мы и в колхоз записались бы! Неужто не записались бы? Папа говорил: "Подумаем, поглядим, а потом запишемся".
— Вот видите, — оживился Калинин, взглянув на девушку, и его голос стал торжествующим и даже по-милому, по-деревенски сварливым, — "подумаем да поглядим". Мы такую страну поворачиваем на сто восемьдесят градусов, сажаем с лошади на трактор! А если каждый будет говорить: подумаем, да поглядим, да посмотрим еще, понравится или не понравится, — какой тут толк будет?! Нет, не будет толку, Надя. Вот, Надя, дело ваше мы, конечно, рассмотрим… Внимательно рассмотрим. Возьмите ее заявление. Вам обязательно сообщат. А плакать — что? Плакать ни к чему. Москва слезам не верит. Слышали такую поговорку? Понятно вам это?
— Да, — прошептала Надя и, в это мгновение вспомнив имя и отчество Калинина, сказала просто, уже без слез и без хитростей, но с большой внутренней силой: — Михаил Иванович, спасите нас.
Уловив в ответ на эти слова какое-то душевное смятение на лице Калинина, Надя вышла из приемной почти пьяная от волнения и счастья и пошла по улицам, не видя, куда идет. Метелица клубилась вовсю. Снежинки из мелких стали крупными, как бы отяжелели, увлажнились, смягчились, перестали дрожать, а плавно опускались прямо вниз и ложились на все как-то ласково, без прежней сухой мелковатой стремительности. Это соответствовало перемене в душевном состоянии Нади. Конечно, некоторые из слов "всесоюзного старосты", когда она вспоминала о них, казались ей чуточку зловещими: упреки по поводу невступления в колхоз, поговорка о Москве, которая не верит слезам, и так далее. Но Надя считала более важным, что сам Калинин, сам он разговаривал с ней, Надей, что он назвал ее по имени, что он сказал: "внимательно рассмотрим", «обязательно», и то мгновенное смятение, то ласковое и одновременно горькое выражение, которое пробежало по его лицу после последних Надиных слов.
Опомнившись от нахлынувших на нее разнородных чувств, Надя заметила, что находится в незнакомом ей месте, возле роскошного собора, широкие ступени которого были густо засыпаны снегом. Надя постояла в нерешимости. С одной стороны, она не могла не подумать, что неспроста очутилась на ступеньках церкви — по всей видимости храма Христа-Спасителя (Надя о нем много слышала), следовало войти и помолиться, возблагодарить бога за удачу в приемной Калинина; с другой стороны — убежденная, что ее хождение к Калинину увенчалось успехом и что вскоре она увидит мать, отца, Макара и братнину семью, — Надя опять впала в почти полное безбожие, свойственное ей и прежде, до их несчастья. Так она стояла и колебалась, пока не увидела, что две старушки поднялись по гигантским ступеням, оставляя на них крохотные следы в снегу. Старушки подошли к широким дверям, попытались открыть, но не смогли: церковь была не только заперта, но и заколочена двумя досками крест-накрест. Старушки перекрестились и пошли обратно почти точно по своим прежним следам.
VIII
Убеленный снегом прохожий посоветовал Наде сесть в трамвай «А», и Надя быстро очутилась у Петровских ворот.
Обувной магазин в Петровском пассаже Надя нашла сразу. К двери магазина стоял длиннейший, извивающийся хвост, заполнивший половину пассажа, нескончаемый обувной хвост, тянувшийся инородным телом вдоль витрин с парфюмерией, книгами, канцелярскими товарами. Очередь не двигалась, а только пузырилась, стоя на одном месте, волновалась, сердилась, переругивалась, то добродушно, то свирепо. Ждали галош.
Надю в магазин не пустили. Напрасно клялась она, что ей галоши не нужны, а нужна ей одна из продавщиц, двоюродная сестра. Железные старухи, стоявшие в проеме двери, даже не оглядывались на нее и только изредка кто-нибудь из них бросал ей оскорбительную фразу, вроде:
— Бог подаст.
Или:
— Молодая, а уже научилась врать.
К счастью, из дверей выглянула востроглазая девушка-продавщица в синем халате. Узнав, что Надя пришла к Соне, она накричала на старух, и они сразу присмирели, притихли. Наде было очень стыдно, что из-за нее так грубо кричали на старых женщин, она к этому в деревне не привыкла.
Войдя в магазин, Надя увидела в дальнем углу Соню. Соня стояла за прилавком и смотрела куда-то вдаль, не то пригорюнившись, не то просто задумавшись. Она ничего не делала, так как полки магазина были совершенно пусты, если не считать белых коробок из-под обуви. Соня удивилась, увидев Надю так рано. Она подняла доску прилавка, пропустила Надю за прилавок и прошла вместе с ней в заднюю дверь. Здесь, в узком коридорчике, почти простенке, среди ящиков, в резком запахе кожи, пеньки и стружки, Надя рассказала Соне о событиях сегодняшнего утра. При этом она постыдилась рассказать о своем полупритворном обмороке, плаче и причитаниях, и Соня, внимательно посмотрев на сияющее, необыкновенно красивое в этот момент лицо Нади, сказала с чувством и не без затаенной, хотя и беззлобной зависти:
— Ты такая красивая, что тебя без очереди всюду пустят.
— Не всюду, — ответила Надя с некоторым замешательством по поводу не совсем заслуженной похвалы. — Сюда, в магазин, не пустили.
— Сюда! — воскликнула Соня презрительно и добавила сумрачно: — Сюда и ангела божьего не пустят…
Она поманила за собой Надю, и они поднялись по узкой лестнице вверх, в небольшой, тоже уставленный ящиками склад, где запах обуви был еще сильнее, чем внизу, хотя обуви и тут не было в помине. Соня открыла дощатую дверь, но войти в комнату они не могли, так как там было необыкновенно тесно: в маленькой комнатушке стояли три канцелярских стола и один письменный, у каждого из столов стоял стул, а на каждом стуле сидел человек. Причем сидели они так тесно, что спинка каждого стула упиралась в задний стол, а животы людей упирались в край их столов. Казалось, им нельзя было вздохнуть, не раздвинув столы.
Письменный стол, самый большой из всех, стоял в центре. На нем красовался самый большой письменный прибор. Он был покрыт сильно поблекшим красным сукном, облитым разноцветными чернилами. За этим столом сидел полный человек, суровый, с красным лицом, в защитной гимнастерке и защитной фуражке.